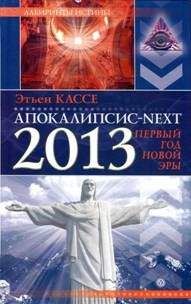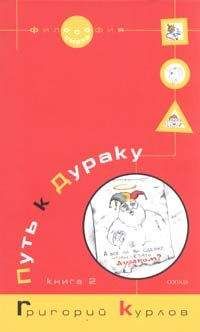Григорий Данилевский - Потемкин на Дунае
– - А что, Савватий? Не я говорил? -- произнес, выслушав эти строки, Ловцов.-- Удаляется, потрясена… чудное создание! Твоя родительница, извини, не права; и я в жизнь уж теперь не поверю, чтоб Ажигина тебе изменила.
– - Как не поверишь? А все, что случилось?
– - Убей Бог, душа говорит,-- кипятился Ловцов,-- не по ком ином Ажигина и черное носит, как по тебе…
– - А Зубов с родичем?
– - Не говори ты мне о них. Верь, ее отуманили, обманули. Неопытная, пылкая девушка; мысли разыгрались, опять же эти книги,-- ну и замутилась. Она ль одна сочла себя в заточенье жертвой и рвалась из-под крыла матери на бедовый, ухарский подвиг? Так вот ее и вижу. Ты не подоспел из командировки, тебя нет,-- а у ней уж весь план готов: замаскирована, где ж рыцарь? Как бы матери сюрприз? А тебя нет…
– - Хорош подвиг,-- осерчал я,-- тебя слушая, надо счесть виновником себя.
– - У них, у девочек, ведь это все иначе,-- продолжал Ловцов,-- ах, как же ты не понимаешь? Там своя логика и свои тонкости… Да и всяк юноша… Ну хоть бы наши гардемарины или юнкера… Вспомни, разбери, как гонялись за оперными и балетными девками! Разве не одни шалости, не одна прыткая, бесшабашная дурь? Ведь те же годы, та же кровь… Вспомни наших и в Аккермане: поколотили жида и готовы были на его жидовке жениться, ну, немедленно, в минуту, в секунду и тут же, среди разбитых бутылок, недоеденной мамалыги и оторопелых молдаван… Не так разве было? Не так?
Бедовый был этот Ловцов; общественный, добрейший, милейший товарищ, но скорый и вспыльчивый, как порох. От близорукости он еще в корпусе носил очки. И чуть покосится через них -- шея и уши в краске, ничего не помнит: в жерло пушки, в огонь готов влететь.
Его речи, пылкая защита Пашуты и острая, томящая скука бездействия измучили меня. Я стал видеть не инако, как тяжелые, странные сны. Все манило меня к делу, к подъятию подвига, который бы расшевелил и оживил общий застой. Одна мысль начинала меня занимать, и я предавался ей во все свободные часы, для чего отлагал пока и поездку в Яссы, с целью хлопотать о спасении имения отца.
Дни между тем стояли те же чудные, почти летние. Ни облачка, тихо и ясно, как в мае. Только предвестники осенних невзгод -- белые паутинки -- летели и медленно стлались по травам и камышам.
Раз мы лежали с Ловцовым у берега в казацком шалаше. В лагере, за ближним холмом, пробили вечернюю зорю: барабаны и трубы смолкли; затихли в обозе кузнечные молоты, у котлов песни, звуки балалаек и торбанов. Один за другим погасли по взгорью костры. Совсем стемнело. Ловцов с утра был в возбужденном, нервическом состоянии.
– - На твоем месте я бросил бы все,-- сказал он мне вдруг,-- и уехал бы к ней…
– - К кому?
– - К Ажигиной.
– - Ты смеешься надо мной? -- произнес я под настроем мысли, о которой не переставал думать. Он вскочил, проворно стал надевать плащ.
– - Слушай,-- произнес он,-- если я шучу, пусть мне не дожить до утра.
Тут он взял ружье, мешок с зарядами и вышел из шалаша.
– - Куда ты? -- спросил я.
– - К острову, в секрет. Казаки Михаиле Ларионычу рыбы решили половить.
– - Ну не стыдно ли так попусту рисковать? -- сказал я в досаде.-- Почем знаешь, что турки не пронюхали и вас не стерегут?
– - Пустое,-- ответил голос Ловцова уж за шалашом в темноте,-- места переменные, и лазутчики доносят, что турков не видать на тридцать верст кругом. А к твоей-то, к перлу, к цветку… уж, как хочешь, брат… ах, жизнь наша треклятая…
Конца речи его я не расслышал, но его слова перевернули вверх дном мою сдержанность, замкнутость. Я догнал его на берегу.
– - Слушай,-- сказал я,-- вместо того чтобы тратить попусту силы, напрасно подвергать гибели других и себя, выполним дело, не дающее мне спокойствия и сна.
– - Какое? Какое?..
– - Подговорим запорожцев, они достанут у некрасовцев простые челны, переоденемся рыбаками и проберемся вверх по реке.
– - Зачем? -- спросил Ловцов.
– - За островом, против Измаила, стянулся на зимнюю стоянку весь турецкий гребной флот…
– - Ну, ну?
– - А далее, что Бог даст…
Ловцов горячо пожал мне руку. Я передал ему свой план в подробностях, и в следующую ночь мы явились на условное свидание. Невдали от берега нас ожидали запорожцы. Я объяснил им, как приступить и выполнить дело. Они слушали молча, понуря чубатые головы.
– - Князь-гетман оттого, может, и сидит, как редька в огороде,-- произнес один из сечевиков, когда я кончил,-- что никто ему не снял на бумажку измаильских штанцев… Мы уже пытались, да не выгорело… Авось его превелебие пошевелит бровями и даст добрым людям размять отерплые руки и ноги в бою с нехристями.
– - Готово? -- спросил я.
– - Готово.
Запорожцы сошли к Дунаю, вытащили из камышей заранее припрятанные лодки, все -- в том числе и мы с Ловцовым -- переоделись в рубахи и шапки гирловых молдаван, спрятали в голенища ножи и уложили на дно сети, мушкеты и кое-какую провизию. Колико кратно ни вспоминаю то время, ясно и живыми образами является оно передо мной.
Ночь была тихая, мглистая. Даже с вечера трудно было разглядеть окрестные, подернутые туманом берега. Теперь, тотчас же за отмелью, начиналась непроглядная тьма. Дунай, будто дыша, плескался о края отмели, катя быстрые, темные волны. То там, то здесь зарождались и вновь пропадали какие-то странные, отрывистые звуки. Парус мерещился. Кудластая коряга, сорвавшись с песчаного бугра, как некое живое чудище, плыла серединой реки. Плеск рыбы, шелест ночных птиц кидали невольно каждого в холод и трепет. Запорожцы сели в лодки, мы за ними, все перекрестились и налегли на весла.
Не буду рассказывать в подробностях о нашем предприятии, хотя считаю за нужное передать в некоторых мелочах. Мы плыли всю ночь, день стояли где-то в заливе, в кустах, и еще проплыли ночь. Огня разводить не смели. И досталось же нам от мошек и комаров; не помогали и сетки, намазанные дегтем. Руки и лица наши вздулись, запеклись кровью. Особенно жалко было видеть Ловцова. Мы из предосторожности обрезали себе короче волосы, а он, близорукий, нетерпеливый, не взял и очков. Мы старались не говорить меж собой. Он же ничего не мог разглядеть и поминутно спрашивал, где мы и не видно ли турецких разъездов.
В одном месте, во вторую ночь, послышался у берега шелест. Лодки в темноте плыли дефилеей небольших островков.
– - Что это? -- тихо вскрикнул Ловцов, хватаясь за мушкет.
– - Брось, пане, рушницу,-- сказал ему брат куренного атамана, Чепйга,-- то не вороги.
– - Кто же это?
– - А повидишь.
Справа ясней раздался мерный, тихий плеск весел. Все притаили дыхание. Из колыхавшейся густой осоки медленно выплыло что-то дивное, черное. Еще минута. Востроносый, ходкий челн с размаха влетел между казацких лодок.
– - Здоровы были, братья по Христу,-- проговорил голос с челна.
– - И вы, братья молодцы, будьте здоровы.
– - Харько? -- спросил Чепига.
– - Он самый.
По челну зашлепали кожаные, без подошв, чувяки. Здоровенный плечистый некрасовец обрисовался у кормы; с ним рядом не то болгарин, не то грек.
– - Проведешь? -- спросил Чепйга.
– - Проведу,-- ответил, просовывая бороду, некрасовец.
– - Да, может, опять как тогда?
– - Ну, не напились бы, братцы, ракии, была бы наша кочерма. Не боитесь?
– - Кошевой звелел,-- гордо объяснил другой запорожец, Понамаренко-пушкарь,-- а что велено кошем, того ослушаться не можно.
Некрасавец помялся плечами, взглянул на своего сопутника.
– - А как поймают да на кол либо кожу с живого сдерут? -- спросил он.
– - Ну, пой про то вашим бабам да девкам,-- презрительно вставил третий запорожец, Бурлай,-- а кожа на то она и есть, чтоб ее, когда можно, сдирали… Да черта лысого сдерут. Ты же, брат, коли договариваться, веди; а не то лучше и не срамись. Сколько?
Некрасовец условился, передал дукаты сопутнику, тот сел к веслам, и члены потянулись далее по реке. Товарищ некрасовца говорил по-русски.
В воздухе похолодело; к концу же ночи поднялся такой туман, что лодку от лодки трудно было разглядеть, и они держались кучей. В сырой, побуревшей мгле стал надвигаться то один берег, то другой.
– - Ну, братцы, кидай теперь сети да греби левей,-- тихо окликнул вожак,-- не наткнуться бы на их суда. Тут вправо за косой и Измаил.
Сети были брошены. Весла чуть шевелились. Вожак не ошибся…
В побелевшем тумане, как в облаке, против передней лодки обрисовалась громада двухпалубного, с пушками, корабля. Паруса убраны, у кормы ходит в чалме часовой. Не успели его миновать, возле -- другой, такой же, выше -- чуть видней -- третий. С последнего кто-то громко и сердито крикнул.
– - Что это? -- спросил я некрасовца.
– - Ругаются, прочь велят ехать! Палками грозятся отдуть.
Лодки стали огибать остров против Измаила. Близились густые ивы, по тот бок пролива -- лесистый, в оврагах холм. Поднимался свежий утренник. Туман заклубился. Кое-где его полосы раздвинулись: из-под них обозначились белые стены, башни, ломаные линии земляных батарей и в две шеренги перед крепостью -- весь парусный и гребной турецкий флот.