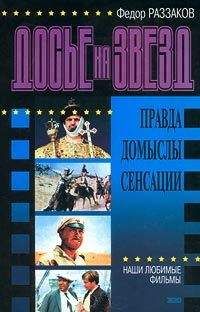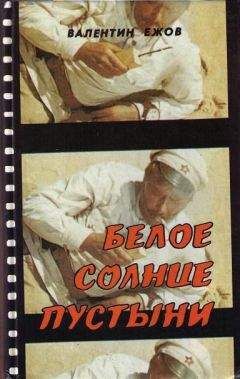Степан Злобин - Остров Буян
Не зная грамоты, Истома и Прохор спрашивали ребят, что где написано. Когда дошло дело до Иванкина горлача, он понял, что на этот раз ему может попасть за написанное.
— «Каково винцо, таково и здравьице», — соврал он.
Ни Прохор, ни Истома не усмотрели в этом ничего худого. Кузя, прочтя Иванкину надпись, не выдал его и только усмехнулся. Это еще подхлестнуло озорника Иванку.
«Голодное брюхо к молитве глухо», — написал он на большой миске.
«Не минешь поста, коль мошна пуста», — написал на своей Кузя.
Ребята трудились неустанно, перемигиваясь, посмеиваясь и подзадоривая друг друга. Уже не было больше и мысли о «молитвенных речениях». Они писали самые бесшабашные поговорки, стараясь лишь превзойти друг друга…
Встретившись на дороге с уезжавшим из города шурином, Прохор Коза похвалился выдумкой Кузи:
— Тебе спасибо, Левонтьич, что грамоте надоумил учить, — то и польза!
— Ученье — свет! — подтвердил Гаврила. — Ин я им из Острова пряников привезу, — обещал он.
Возвращаясь из Острова, хлебник заехал к Козе и зашел в гончарную, заваленную новой расписной посудой. Ни Иванки, ни Кузи не было в мастерской. Истома с Прохором вдвоем муравили поливой суда.
— Ну, кажите, где ваше диво? — ввалившись, спросил хлебник.
— Все тут. За показ ничего не берем, — шутливо отозвался Коза.
— А чего тут писано, знаешь? — взглянув на блюдо, спросил Гаврила с какой-то настороженностью.
— Грамоты хоть не ведаю, а все до единой помню, — отозвался Коза.
— Что на сем большом блюде? — спросил испытующе хлебник.
— «Взалкахся бо и даете ми ясти!» — твердо ответил горшечник. — Апостола Матвея Евангелье.
Гаврила усмехнулся.
— А тут что? — спросил он, взяв в руки второе блюдо.
— «Да ясти и пиете на трапезе моей!..» Какого апостола, угадай? — уверенно спросил Прохор.
Гаврила неудержимо захохотал. Он взял еще блюдо, взял кружку и заливался хохотом.
— Где Кузька, ваш «грамотей»? Пряников я ему… ох, уморил, окаянный!..
— Да что ты ржешь?! — недоуменно спросил Коза.
Гаврила, шатаясь от смеха, вышел во двор.
— Ку-у-зьм-а-а! — раздался на все Завеличье могучий голос.
Кузя и Иванка прибежали из дома в гончарную.
— Здоровы, апостолы! — огорошил их хлебник, вдруг ставший строгим.
Поняв, что деваться некуда, оба потупились.
— Ты что же, бесенок, деешь! — накинулся хлебник на Кузю. — На то тебе грамоту дали, чтоб батьку под плети подвел, апостол Кузьма? Узорники мне отыскались тоже!
Хлебник грозно шагнул к племяннику. Кузя от страха присел. Оба отца недоуменно глядели на происходящее.
— Левонтьич, да ты растолкуй: чего они натворили? — спросил Коза.
— Читай, что написано тут, — обратился к Иванке хлебник.
— «Где чернецы[74], тут и пьяницы», — прочел оробевший Иванка.
— От какого апостола, угадай? — повернулся Гаврила к горшечнику.
— Задеру собачьих детей!.. — взревел Прохор, поняв проделку.
Ребята кинулись прочь из гончарной. Им вслед неудержимо гремел хохот дяди Гаврилы да брань обоих рассвирепевших отцов…
Глава пятая
Первушка растерянный сел у ворот подворья и долго сидел, не зная, куда пойти. Филипп Шемшаков, который срядил его провожать до Москвы обоз Емельянова, сказал, что в Москве он с обозом прямо придет на боярский двор и тут же сумеет заложитъся в боярщину.
— И сам я там буду, в Москве. Свидимся — пособлю, — обещал он.
В Москве оказалось, что в назначенном месте был не боярский двор, а просто монастырское подворье. В расчете на то, что сразу попадет на службу к боярину, Первушка порядился только в один конец, и, если бы даже теперь захотел возвратиться, у него не было ни харчей, ни денег. В кисе бренчали всего с десяток грошей на ночлег и краюшка хлеба. Несколько дней по морозу он бродил у разных боярских дворов, расспрашивал челядинцев, как повидать боярина, и терпел отовсюду насмешки…
Изголодавшись, попал он к купцу поколоть дрова и рад был за то миске вчерашних щей. На другой день он порядился грузить на воза железные лопаты без рукоятей. От мороза они пристывали к рукам, ссаживая ладони. Рукавицы протерлись, немели от холода пальцы. Женственный и слабосильный, Первушка отставал от других в работе, и после полудня его прогнали. Когда его за то же выгнали через несколько дней с кладбища, где нанялся он копать могилы, бесприютный, продрогший Первушка пошел в теплое место, в кабак, чтобы погреться.
Непривычный к пьянству, он захмелел с одной чарки и стал громко плакать.
— О чем горюешь, красна девица? — резким голосом насмешливо спросил его кто-то.
Перед Первушкой сидел человек в лисьей шубе, крытой красным заморским сукном, хоть потертой, но все же богатой, в бархатной шапке с соболем и с саблей у пояса. Карие маслянистые глаза его смотрели ласково и насмешливо. Лицо казалось еще насмешливей от узкой и длинной черной бородки, торчавшей вперед…
«Наверно, боярский холоп, — подумал Первушка. — А вдруг мне тут повезет!» И он стал рассказывать о себе козлобородому человеку. Тот слушал, смеялся и подзадоривал, подливая ему вина.
— И что тебе бояре дались?! — сказал он, когда Первушка кончил рассказ. — Иной дворянин-помещик живет лучше бояр. Вот мой господин Петр Тихонович живет лучше бояр. Его вся Москва почитает. Я у него не только что сыт, и пью на его деньги и доброго товарища могу угостить. Хочешь за него заложиться?
— Я ноне хоть за нечистого заложусь с кручины, — сказал от души Первунька, — только б жить!
И он не успел оглянуться, как козлобородый подозвал человека в сером сукмане с чернильницей у пояса, с гусиным пером, засунутым за ухо.
— Пиши по указу, как надо. Сей малый к моему господину, ко дворянину Траханиотову, хочет писаться.
И площадный подьячий за два алтына, взятых с Первушки, за чарку водки и за кусок говяжьего студня тут же состряпал кабальную запись…
По кривым улочкам прошли они к покосившемуся некрашеному домишке в два небольших оконца, затянутых пузырем, сидевшему до самой крыши в сугробе. По пути новый товарищ оберегал и поддерживал хмельного Первушку.
— Куды ж ты ведешь? — несмотря на хмель, удивился Первой у дверей домишка, куда подтолкнул его новый заботливый друг.
— Домой.
— Да нешто такие дворянские домы?!
— Иди, холоп, да молчи! — одернул его товарищ, вдруг потеряв выражение ласки и дружбы.
— Чего я в такую дыру пойду?
— Ты мне холоп — и покоряйся! — строго прикрикнул чернобородый.
— Пошто твой холоп?! Отколь твой? — оторопел Первушка.
— Я дворянин Траханиотов. Ты мне кабальную запись дал, — с торжеством заявил тот.
— Заре-езали! — закричал Первушка на всю улицу.
Тогда дворянин ударил его плетью. Первушка орал все громче. Со всех сторон на крик собрались зеваки.
Среди других заметил Первушка, как чудо, псковского площадного подьячего Шемшакова.
— Филипп Иваныч, знаком! Спаси от насильства! — обрадовавшись ему, взмолился Первушка. — Спаси от татя! Ты обещал на Москве пособить.
— От татя?! — Дворянин еще раз размахнулся, и щеку Первушки огрел удар.
Какой-то приземистый, крепкий мужик схватил дворянина за руку.
— Пошто бьешь парнишку? — строго спросил он.
Траханиотов со злостью рванул руку, но посадский мужик оказался сильней.
— Пусти! — крикнул Траханиотов.
— А ты пошто парня лупишь? — закричали кругом.
Первушка с надеждой взглянул на толпу.
— Мой холоп, вот и учу его разуму, а вам что за дело? От пьянства его отучаю! — дерзко сказал дворянин всей толпе.
— И то — пьян! — смеясь, подтвердил псковский подьячий.
И все увидели, что в самом деле Первушка пьян, и, смеясь, разошлись.
Тогда Траханиотов втолкнул его в дверь дома и здорово всыпал ему еще за крик и бесчинство…
Первушка очнулся избитый и голый. В темноте он не мог понять, где находится. Пахло кислятиной, он натыкался на какие-то мешки, на скамейки; было пыльно и душно. Ощупью он разыскал дверь и толкнулся — она была заперта. Он толкнулся еще раз и вдруг услыхал резкий крик:
— Эй, холоп! Снова буянить?! Рожу побью!
Первушка притих и беспомощно сел на скамью. Через несколько времени дверь отперлась.
— Вылазь, холоп, — сказал дворянин.
Ежась, стыдясь своей наготы, Первушка вышел на свет из чулана.
— Станешь еще буянить? — спросил дворянин. Первой заметил знакомую плеть. От страха побоев он вдруг весь покрылся гусиной кожей.
— Не стану, — буркнул он покорно и тихо.
— Чей ты холоп? — испытующе спросил дворянин.
— Твой.
— То-то, что мой! Надобно молвить: «Твой, осударь Петр Тихонович!» — смягчившись, сказал дворянин. — Дурак ты. Чем ямы на кладбище рыть, станешь на легкой работе жить, по домашности… Порток я тебе на первое время не дам. Так привыкай. А станешь добро служить — и порты заслужишь, — добавил он.