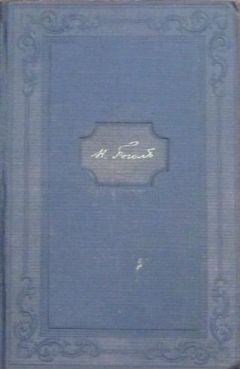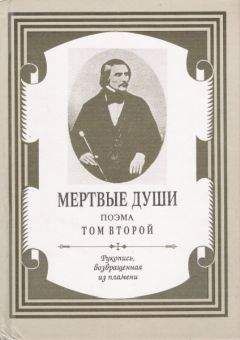Николай Гоголь - Мертвые души
– Ты, однако, и тогда так говорил, – отвечал белокурый, – а когда я тебе дал пятьдесят рублей, тут же просадил их.
– И не просадил бы! ей-богу, не просадил бы! Не сделай я сам глупость, право, не просадил бы. Не загни я после пароле на проклятой семерке утку,[10] я бы мог сорвать весь банк.
– Однако ж не сорвал, – сказал белокурый.
– Не сорвал потому, что загнул утку не вовремя. А ты думаешь, майор твой хорошо играет?
– Хорошо или не хорошо, однако ж он тебя обыграл.
– Эка важность! – сказал Ноздрев, – этак и я его обыграю. Нет, вот попробуй он играть дублетом,[11] так вот тогда я посмотрю, я посмотрю тогда, какой он игрок! Зато, брат Чичиков, как покутили мы в первые дни! Правда, ярмарка была отличнейшая. Сами купцы говорят, что никогда не было такого съезда. У меня все, что ни привезли из деревни, продали по самой выгоднейшей цене. Эх, братец, как покутили! Теперь даже, как вспомнишь… черт возьми! то есть как жаль, что ты не был. Вообрази, что в трех верстах от города стоял драгунский полк. Веришь ли, что офицеры, сколько их ни было, сорок человек одних офицеров было в городе; как начали мы, братец, пить… Штабс-ротмистр Поцелуев… такой славный! усы, братец, такие! Бордо называет просто бурдашкой. «Принеси-ка, брат, говорит, бурдашки!» Поручик Кувшинников… Ах, братец, какой премилый человек! вот уж, можно сказать, во всей форме кутила. Мы всё были с ним вместе. Какого вина отпустил нам Пономарев! Нужно тебе знать, что он мошенник и в его лавке ничего нельзя брать: в вино мешает всякую дрянь: сандал, жженую пробку и даже бузиной, подлец, затирает; но зато уж если вытащит из дальней комнатки, которая называется у него особенной, какую-нибудь бутылочку – ну просто, брат, находишься в эмпиреях. Шампанское у нас было такое – что пред ним губернаторское? просто квас. Вообрази, не клико, а какое-то клико-матрадура, это значит двойное клико. И еще достал одну бутылочку французского под названием: бонбон. Запах? – розетка и все что хочешь. Уж так покутили!.. После нас приехал какой-то князь, послал в лавку за шампанским, нет ни одной бутылки во всем городе, всё офицеры выпили. Веришь ли, что я один в продолжение обеда выпил семнадцать бутылок шампанского.
– Ну, семнадцать бутылок ты не выпьешь, – заметил белокурый.
– Как честный человек говорю, что выпил, – отвечал Ноздрев.
– Ты можешь себе говорить, что хочешь, а я тебе говорю, что и десяти не выпьешь.
– Ну хочешь об заклад, что выпью!
– К чему же об заклад?
– Ну, поставь свое ружье, которое купил в городе.
– Не хочу.
– Ну да поставь, попробуй!
– И пробовать не хочу.
– Да, был бы ты без ружья, как без шапки. Эх, брат Чичиков, то есть как я жалел, что тебя не было. Я знаю, что ты бы не расстался с поручиком Кувшинниковым. Уж как бы вы с ним хорошо сошлись! Это не то что прокурор и все губернские скряги в нашем городе, которые так и трясутся за каждую копейку. Этот, братец, и в гальбик,[12] и в банчишку, и во все что хочешь. Эх, Чичиков, ну что бы тебе стоило приехать? Право, свинтус ты за это, скотовод эдакой! Поцелуй меня, душа, смерть люблю тебя! Мижуев, смотри, вот судьба свела: ну что он мне или я ему? Он приехал бог знает откуда, я тоже здесь живу… А сколько было, брат, карет, и все это en gros.[13] В фортунку[14] крутнул: выиграл две банки помады, фарфоровую чашку и гитару; потом опять поставил один раз и прокрутил, канальство, еще сверх шесть целковых. А какой, если б ты знал, волокита Кувшинников! Мы с ним были на всех почти балах. Одна была такая разодетая, рюши на ней, и трюши, и черт знает чего не было… я думаю себе только: «черт возьми!» А Кувшинников, то есть это такая бестия, подсел к ней и на французском языке подпускает ей такие комплименты… Поверишь ли, простых баб не пропустил. Это он называет: попользоваться насчет клубнички. Рыб и балыков навезли чудных. Я таки привез с собою один; хорошо, что догадался купить, когда были еще деньги. Ты куда теперь едешь?
– А я к человечку к одному, – сказал Чичиков.
– Ну, что человечек, брось его! поедем ко мне!
– Нет, нельзя, есть дело.
– Ну вот уж и дело! уж и выдумал! Ах ты, Оподелдок Иванович!
– Право, дело, да еще и нужное.
– Пари держу, врешь! Ну скажи только, к кому едешь?
– Ну, к Собакевичу.
Здесь Ноздрев захохотал тем звонким смехом, каким заливается только свежий, здоровый человек, у которого все до последнего выказываются белые, как сахар, зубы, дрожат и прыгают щеки, и сосед за двумя дверями, в третьей комнате, вскидывается со сна, вытаращив очи и произнося: «Эк его разобрало!»
– Что ж тут смешного? – сказал Чичиков, отчасти недовольный таким смехом.
Но Ноздрев продолжал хохотать во все горло, приговаривая:
– Ой, пощади, право, тресну со смеху!
– Ничего нет смешного: я дал ему слово, – сказал Чичиков.
– Да ведь ты жизни не будешь рад, когда приедешь к нему, это просто жидомор! Ведь я знаю твой характер, ты жестоко опешишься, если думаешь найти там банчишку и добрую бутылку какого-нибудь бонбона. Послушай, братец: ну к черту Собакевича, поедем ко мне! каким балыком попотчую! Пономарев, бестия, так раскланивался, говорит: «Для вас только, всю ярмарку, говорит, обыщите, не найдете такого». Плут, однако ж, ужасный. Я ему в глаза это говорил: «Вы, говорю, с нашим откупщиком первые мошенники!» Смеется, бестия, поглаживая бороду. Мы с Кувшинниковым каждый день завтракали в его лавке. Ах, брат, вот позабыл тебе сказать: знаю, что ты теперь не отстанешь, но за десять тысяч не отдам, наперед говорю. Эй, Порфирий! – закричал он, подошедши к окну, на своего человека, который держал в одной руке ножик, а в другой корку хлеба с куском балыка, который посчастливилось ему мимоходом отрезать, вынимая что-то из брички. – Эй, Порфирий, – кричал Ноздрев, – принеси-ка щенка! Каков щенок! – продолжал он, обращаясь к Чичикову. – Краденый, ни за самого себя не отдавал хозяин. Я ему сулил каурую кобылу, которую, помнишь, выменял у Хвостырева… – Чичиков, впрочем, отроду не видел ни каурой кобылы, ни Хвостырева.
– Барин! ничего не хотите закусить? – сказала в это время, подходя к нему, старуха.
– Ничего. Эх, брат, как покутили! Впрочем, давай рюмку водки; какая у тебя есть?
– Анисовая, – отвечала старуха.
– Ну, давай анисовой, – сказал Ноздрев.
– Давай уж и мне рюмку! – сказал белокурый.
– В театре одна актриса так, каналья, пела, как канарейка! Кувшинников, который сидел возле меня, – «Вот, говорит, брат, попользоваться бы насчет клубнички!» Одних балаганов, я думаю, было пятьдесят. Фенарди[15] четыре часа вертелся мельницею. – Здесь он принял рюмку из рук старухи, которая ему за то низко поклонилась. – А, давай его сюда! – закричал он, увидевши Порфирия, вошедшего с щенком. Порфирий был одет, так же как и барин, в каком-то архалуке, стеганном на вате, но несколько позамасленней.
– Давай его, клади сюда на пол!
Порфирий положил щенка на пол, который, растянувшись на все четыре лапы, нюхал землю.
– Вот щенок! – сказал Ноздрев, взявши его за спинку и приподнявши рукою. Щенок испустил довольно жалобный вой.
– Ты, однако ж, не сделал того, что я тебе говорил, – сказал Ноздрев, обратившись к Порфирию и рассматривая тщательно брюхо щенка, – и не подумал вычесать его?
– Нет, я его вычесывал.
– А отчего же блохи?
– Не могу знать. Статься может, как-нибудь из брички поналезли.
– Врешь, врешь, и не воображал чесать; я думаю, дурак, еще своих напустил. Вот посмотри-ка, Чичиков, посмотри, какие уши, на-ка пощупай рукою.
– Да зачем, я и так вижу: доброй породы! – отвечал Чичиков.
– Нет, возьми-ка нарочно, пощупай уши!
Чичиков в угодность ему пощупал уши, примолвивши:
– Да, хорошая будет собака.
– А нос, чувствуешь, какой холодный? возьми-ка рукою.
Не желая обидеть его, Чичиков взял и за нос, сказавши:
– Хорошее чутье.
– Настоящий мордаш,[16] – продолжал Ноздрев, – я признаюсь, давно острил зубы на мордаша. На, Порфирий, отнеси его!
Порфирий, взявши щенка под брюхо, унес его в бричку.
– Послушай, Чичиков, ты должен непременно теперь ехать ко мне, пять верст всего, духом домчимся, а там, пожалуй, можешь и к Собакевичу.
«А что ж, – подумал про себя Чичиков, – заеду я в самом деле к Ноздреву. Чем же он хуже других, такой же человек, да еще и проигрался. Горазд он, как видно, на все, стало быть, у него даром можно кое-что выпросить».
– Изволь, едем, – сказал он, – но чур не задержать, мне время дорого.
– Ну, душа, вот это так! Вот это хорошо, постой же, я тебя поцелую за это. – Здесь Ноздрев и Чичиков поцеловались. – И славно: втроем и покатим!
– Нет, ты уж, пожалуйста, меня-то отпусти, – говорил белокурый, – мне нужно домой.
– Пустяки, пустяки, брат, не пущу.
– Право, жена будет сердиться; теперь же ты можешь пересесть вот в ихнюю бричку.