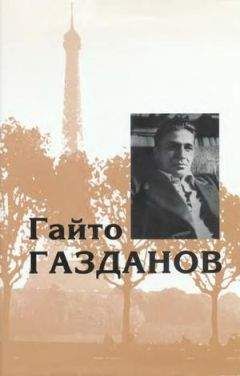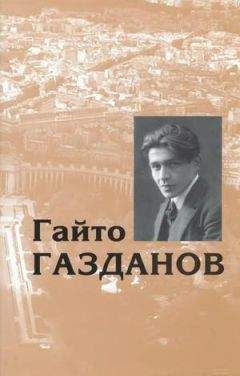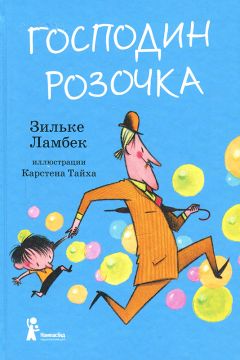Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
Квартира m-lle Tito была обставлена довольно хорошо; и каждый предмет был непременно связан с каким-нибудь воспоминанием. Арфа, стоявшая между окном и диваном и мелодически дребезжавшая всякий раз, когда по улице проезжал грузовик, принадлежала покойной подруге m-lle Tito, которая умерла совсем молодой и перед смертью просила m-lle Tito сохранить арфу. Я не имел никакого представления об этой подруге: но, по рассказам m-lle Tito, это была женщина чрезвычайно деликатная и очень талантливая. – Elle etait sur le point de mourir[268], – говорила m-lle Tito, смешивая русские фразы с французскими, – и она мне сказала: ты можешь плюнуть на все, но не на арфу. И я ей ответила: ma pauvre petite, tu peux etre tranquille[269]. – Рояль был подарен m-lle Tito одним итальянским графом, который был очень беден: и поэтому, купив рояль в кредит, он заплатил только за доставку и сделал первый взнос, а потом уехал не то в Милан, не то в Геную и больше не возвращался: но m-lle Tito не переставала громко удивляться каждый раз, когда агенты по продаже музыкальных инструментов и их принадлежностей приходили к ней через одинаковые промежутки времени, неизменно требуя очередной уплаты и многословно извиняясь за беспокойство.
Забота о библиотеке m-lle Tito была взята на себя одним знаменитым лицом, имени которого m-lle Tito по некоторым причинам не могла назвать; впоследствии я узнал, что библиотеку составлял один сенатор, действительно довольно известный, и что причины, по которым m-lle Tito не хотела назвать его имени, были те, что он уже полтора года сидел в тюрьме за растрату казенных денег и подделку подписи на векселе. Впрочем, библиотека, состоявшая вначале из французских классиков, была пополнена самой m-lle Tito, приобретшей на личные средства Надсона, Тургенева и романы Декобра, которого она искренне считала лучшим современным писателем и-по совершенно непостижимым причинам – учеником и последователем Анатоля Франса.
M-lle Tito была глубоко убеждена в том, что она – несколько испорченная светская женщина, развращенная парижским снобизмом, уставшая от красоты и искусства и очаровательная в личном обращении. Это заблуждение она незаметно впитала в себя, читая французские романы, в героинях которых неизменно находила сходство с собой; и чем прекраснее была героиня, тем больше она походила на m-lle Tito. Но самым верным своим изображением она считала какую-то Диану из Декобра.
– Я спросила его, – рассказывала m-lle Tito; она была знакома со всеми известными людьми, или, вернее, думала, что она с ними знакома; и когда какой-нибудь из таких людей, в ответ на ее нарочито небрежный поклон, который она считала самым светским, смотрел на нее с нескрываемым удивлением, она говорила, обращаясь к своему спутнику: «Regardez moi ca, c'est un peu fort quand meme»[270], – я его спросила: скажите, разве меня зовут Дианой? – он улыбнулся и сказал: peut etre bien. Oh, il est tres fin[271]; я его хорошо понимаю.
Она всегда говорила: вы не думайте, я это хорошо понимаю, – точно все ее собеседники ожидали, что она этого не поймет, и точно понимание ее являлось для них одним из сюрпризов, которые она очень любила. Они заключались в самых разных вещах, но всегда носили несколько странный характер, вызывавший искреннее восхищение только у самой m-lle Tito.
Она принимала у себя двух-трех человек каждый вечер. – Я люблю иметь общество немногочисленное, – говорила она, – des gens qui se comprennent bien quoi[272] и которые все принадлежат одному milieu[273]. – Наиболее частыми ее гостями были аббат Tetu и поэтесса Раймонда, которые вели длиннейшие разговоры о католицизме, буддизме и магометанстве. M-lle Tito была верующей католичкой; ее склонил к вере именно аббат Tetu, лысый и улыбающийся человек в длинной сутане, очень любивший русский чай и съедавший неимоверное количество бисквитов. Аббат был всегда надушен и постоянно улыбался; и когда я долго смотрел на него, у меня вдруг появлялось впечатление, что аббата внезапно ударили по голове, он перестал соображать и на лице его появилась блаженная улыбка, которая останется до тех пор, пока не пройдет это отупение, вызванное ударом. Но аббат не переставал улыбаться; и только складка его губ менялась в зависимости от того, какой происходил разговор. Оттенков его улыбки было множество; и даже в тех случаях, когда говорили об очень грустных событиях, аббат поднимал брови вверх, придавал своему лицу траурное выражение – и все-таки улыбался, и это можно было истолковать так: эти бедные люди убили на войне брата m-lle Tito, но разве они знали, разве они могли понять, что ожидает его на небе? – все получалось так прилично, что никто не был шокирован.
Обычно же улыбка аббата была снисходительной и благосклонной; она как бы давала почувствовать, что аббат все понял и все знает и мягко смеется над человеческими слабостями и ничему не удивляется; и действительно, аббата нельзя было застать врасплох, – что бы ни говорилось, он сохранял вид человека, которому давно все известно и который обо всем этом имеет самые точные и непогрешимые мнения – будь то вопрос о втором пришествии, или балканских нравах, или о пользе разведения кроликов в местностях с глиняной почвой, – как однажды сказала поэтесса Раймонда, ничего решительно не знавшая о кроликах и заговорившая о них только потому, что, по ее словам, она любила всю природу. Когда аббат высказывался, – а он высказывался только о приятных для всех вещах, – то выходило, что он, ничего не подчеркивая, делает любезность окружающим: он не говорил, а брал на себя труд произнести несколько фраз, окруженных различнейшими и любезнейшими улыбками, и казалось, внутренне он все-таки жалеет о том, что растрачивает перед этими простыми людьми свою католическую, всеобъемлющую мудрость. И все-таки аббат звезд с неба не хватал – как выразился о нем русский критик, тоже бывавший частым гостем m-lle Tito, человек лет тридцати, которого она ценила за прекрасное знание французского языка; впрочем, критик приходил в гости не из-за очарования m-lle Tito, как она это думала, а по причинам более прозаическим: он дал ей идею пьесы, которую она писала, и являлся или за деньгами, которые она все не хотела ему заплатить сразу, или для обсуждения подробностей очередного акта. Игрушечный ум аббата любил специальные обороты речи, казавшиеся чрезвычайно эффектными и замечательными m-lle Tito, но вообще несколько утомительные и до смешного невинные. – Oui, – говорил он, – nous vivons entoures de mystere et c'est toujours nous qui entourons l'inconnu[274]. Или: que le ciel descende jusqu'a la terre, Dieu ne descendrait pas jusqu'au ciel[275]. У него был целый запас таких выражений; и, произнося какое-нибудь из них, он прислушивался к тишине, воцарявшейся в комнате, и неизменно прибавлял: – Et d'ailleurs, qu'en savons nous?[276] – чем повергал m-lle Tito в состояние полного восторга. С таким же вниманием его слушала поэтесса; она даже приоткрывала немного рот с видом капризного ребенка, но ровно настолько, чтобы это оставалось приличным.
Как m-lle Tito в своем собственном представлении была светской женщиной, увлекательной и умной, так поэтесса казалась себе милым ребенком, сохранившим свежесть и прелесть детского очарования. И она говорила, смеясь и вздрагивая, особенным, детским, как она думала, голосом: – Oh, que vous etes mechant![277] – и потом слегка выпячивала губы вперед. Вся поэзия была для нее чем-то вроде сквера, в котором играют дети, – она однажды приблизительно так и выразилась и обиделась на критика, который визгливо хохотал, представляя себе, как он говорил, Виктора Гюго с лопаточкой для песка, Верлена и Бодлера, играющих в лошадки, и Оскара Уайльда в коротеньких штанах, катившего перед собой обруч. Но специальностью поэтессы был лунный свет, который она описывала в каждом своем стихотворении и который появлялся то на небе «мраморном, как колоннады эллинов», то «в гостиной, похожей на оранжерею», то в саду, – и во всех этих случаях луна «плясала и колдовала» и была похожа иногда на лицо покинутой любовницы, иногда на крендель, иногда на какие-то брови Востока. И казалось, что если бы луны не было, то жизнь поэтессы Раймонды, без всех этих бровей Востока и лиц покинутых любовниц среди мраморных колоннад эллинов, потеряла бы всякий смысл. Поэтесса верила в загробное существование и была убеждена в том, что после смерти она превратится в маленькую звездочку с печальным светом. – А сколько вы весите? – вдруг спросил критик. Она пожала плечами и обернулась к аббату, ища у него сочувствия; и аббат улыбался, загадочный, как сфинкс, и нельзя было понять, что он думает – и думает ли он вообще или за этой улыбкой скрывается зловещая пустота, в которой одиноко плавают обрывки фраз о тайне, которая нас окружает, и о неизвестном, которое окружено, нами.
M-lle Tito была очень экономна, и обеды ее состояли чаще всего из затейливо приготовленных овощей; но недостаток пищи она замещала обильным количеством вина. Любимым и чаще всего подававшимся блюдом была морковь, и по поводу этой моркови у m-lle Tito произошла даже небольшая размолвка с критиком, который в ответ на приглашение прийти обедать, сделанное в присутствии аббата и поэтессы, ответил по-русски: – Да что ж, вы опять, наверное, морковку приготовите? Я, знаете, не кролик, чтобы питаться только морковью и капустой. Вы мяса купите, тогда я приду. – M-lle Tito взглянула на него, как он сам говорил, совершенно ложноклассическим взглядом, но он не обратил на это никакого внимания и опять повторил: – Мяса купите, тогда приду, – и заговорил о декорациях последнего Foliens-Bergere.