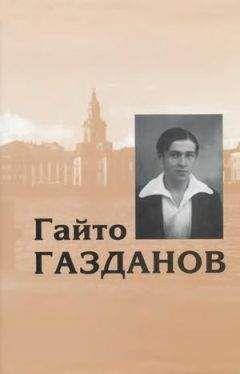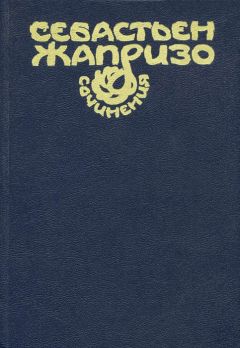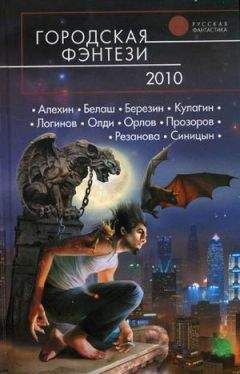Гайто Газданов - Том 3. Романы. Рассказы. Критика
А описание – сделанное, казалось бы, в самых положительных тонах – времяпровождения Ивана Федоровича Шпоньки?..
«Когда другие разъезжали на обывательских по мелким помещикам, он, сидя на своей квартире, упражнялся в занятиях, сродных одной короткой и доброй душе: то чистил пуговицы, то читал гадательную книгу, то ставил мышеловки по углам своей комнаты, то, наконец, скинувши мундир, лежал на постели…». «Впрочем, Иван Федорович, как уже имел я случай заметить прежде, был такой человек, который не допускал к себе скуки. В то время развязывал он чемодан, вынимал белье, рассматривал его хорошенько: так ли вымыто, так ли сложено; снимал осторожно пушок с нового мундира, сшитого уже без погончиков, и снова все это укладывал наилучшим образом. Книг он, вообще сказать, не любил читать: а если заглядывал иногда в гадательную книгу, так это потому, что любил встречать там знакомое, читанное уже несколько раз».
Есть в этом, на первый взгляд, благодушном описании что-то беспощадно-издевательское, какое-то почти жуткое отсутствие сколько-нибудь человеческого отношения к герою. А рассуждения Чичикова над списком купленных крестьян?
«Мастер ли ты был или просто мужик и какой смертью тебя прибрало? В кабаке ли или среди дороги переехал тебя, сонного, неуклюжий обоз? – Пробка Степан, плотник, трезвости примерной… где тебя прибрало? Возместился ли ты для большего прибытку под церковный купол, а может быть, и на крест потащился и, поскользнувшись оттуда с перекладины, шлепнулся оземь и только какой-нибудь стоявший возле тебя дядя Михей, почесав рукой в затылке, примолвил: „Эх, Ваня, угораздило тебя!“, а сам, подвязавшись веревкой, полез на то место. Григорий доезжай не доедешь! Ты что был за человек? Извозом ли промышлял и, заведши тройку и рогожную кибитку, отрекся навеки от дому, от родной берлоги и пошел тащиться с купцами на ярмарку? На дороге ли ты отдал душу Богу или уходили тебя твои же приятели за какую-нибудь толстую и краснощекую солдатку или пригляделись лесному бродяге ременные твои рукавицы и тройка приземистых, но крепких коньков, или, может быть, и сам, лежа на полатях, думал, думал, да ни с того, ни с другого заворотил в кабак, а потом в прорубь и поминай как звали? Эх, русский народец! Не любит умирать своею смертью!»
Это написано с таким гениальным литературным искусством, что нужно сделать усилие внимания – и только тогда замечаешь, что, стоя рядом с разбившимся насмерть Степаном Пробкой, дядя Михей говорит: «Эх, Ваня», – вместо того, чтобы сказать – «Эх, Степан!» Вот он, тот русский народ, который описывал в своих рассуждениях Павел Иванович Чичиков и в котором чудовищная фантазия Гоголя увидела читателя «Одиссеи» в переводе Жуковского. Какая жуткая жизнь была у автора «Мертвых душ»! Ни жены, ни детей, ни собственного очага, ни дома, ни друзей, ни привязанности, ни пристанища, ни любви, ни даже России, из которой его все время тянуло в чужие земли; скитания, унижения, не понятый им самим литературный гений, презрение к тем, кого он хотел любить и кому, по его словам, он стремился принести пользу, безнадежное одиночество, бедность, и мания величия, и смертельный религиозный бред. И кроме того, конечно, страшный, нечеловеческий мир, который создало его чудовищное, распаленное воображение, похожий на видение того раскаленного ада, в котором сгорел Гоголь, оставив нам в наследство то, что было создано его неповторимым литературным гением, и неразрешимую загадку его кратковременного пребывания на земле, и его смерти, – столь же непостижимой, как его жизнь.
О Чехове*
«Жизнь и творчество». Сколько раз приходится читать эти слова, и надо признать, что почти никогда книги с такими заглавиями себя не оправдывают. Всякая человеческая жизнь – явление бесконечно сложное, а тем более жизнь такого человека, как Чехов. Рассказать это в одной небольшой книге очень трудно. Но в применении к Чехову, вдобавок, это соединение слов – жизнь и творчество – звучит особенно неубедительно. Это приложимо, конечно, ко всякому таланту: жизнь Толстого не объясняет его творчества, жизнь Пушкина не объясняет его творчества. Жизнь Чехова – меньше всего. И когда думаешь о Чехове, это становится особенно очевидным.
Жизнь Чехова в нескольких словах: глушь южной России, город Таганрог, отец – владелец лавочки, убежденный в нескольких несложных вещах: надо бояться Бога, семью содержать в строгости, детей пороть; братья, сестра, мать, мещанская среда, убожество российской провинции, среднее учебное заведение, уроки в старших классах, затем отъезд в Москву, в университет, бедность, потом короткие юмористические рассказы в плохих журналах, вроде «Будильника» и «Осколков», потом докторский диплом, потом литературная известность и материальная обеспеченность, короткий расцвет, затем начало болезни, потом долгое и медленное умирание, женитьба на Книппер за четыре года до кончины, потом 1904 год, Германия, Баденвейлер, предпоследние слова Чехова – Ich sterbe – и смерть. Труп Чехова был доставлен в Москву в вагоне, предназначенном для перевоза устриц, – надо полагать, что среди пограничных властей не было читателей Чехова и им было неизвестно имя одного из самых замечательных писателей России. Одного из самых замечательных – и одного из самых необъяснимых – опять повторяю это слово. Как возникли в воображении Чехова «Степь», «Мужики», «В овраге», «Палата номер шесть», «Дама с собачкой», «Дом с мезонином»? Вопрос, может быть, праздный, но одно мы знаем твердо: биография Чехова нам ответа на этот вопрос никак дать не может. Но и в том, что Чехов писал, есть вещи, казалось бы, совершенно несоединимые в одном и том же человеке. Его письма к Книппер, эти ласкательные имена, которыми он ее называет, – лошадка, дусик, гургулька, собачка, конопляночка, роднуля, актрисуля, пупсик, таракашка, – откуда эти слова, которые режут слух и от которых нельзя не поморщиться? Не будем говорить о пьесах Чехова, о «небе в алмазах», «мы отдохнем», «многоуважаемый шкаф». На мой взгляд, его пьесы немногим лучше этих провалов, которые мы находим в его письмах, жене. Значит, иногда у Чехова как-то прорывалось то мещанство, в среде которого началась его жизнь. Но вот, непостижимым образом, оно строго ограничено. В его рассказах нет ведь ни одной погрешности в этом смысле и кажется непонятным, что один и тот же человек мог написать эти письма и такие рассказы, как «Архиерей», «Убийство», «Моя жизнь».
Чехов как человек, – что можно сказать об этом? Мы знаем внешние факты его жизни и их последовательность. Но об остальном, о том, чем он действительно жил, мы можем только строить догадки. Чехов был человеком исключительно сдержанным – черта довольно редкая в русской литературе. Надо полагать, что один из его биографов, написавший о нем книгу, Борис Константинович Зайцев, близок к истине, утверждая, что сильных чувств Чехов в своей жизни не испытал. Характерна в этом смысле фраза из письма к Чехову Лики, той самой Лики, Лидии Стахиевны Мизиновой, которую Чехов изобразил потом в «Чайке» и с которой у него было нечто похожее на роман. Лика пишет ему: «Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и их недостаткам и слабостям». Судьба Лики известна – надо ли ее напоминать? Связь с писателем Потапенко, незаконный ребенок, который потом умер, замужество – она вышла за режиссера Санина, – и потом, в 1937 году в Париже, смерть на больничной койке, почти через полвека после ее первой встречи с Чеховым. «Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям».
Бунин в своей книге о Чехове пишет:
«А ведь до сих пор многие думают, что Чехов никогда не испытал большого чувства.
Так думал когда-то и я.
Теперь же я твердо скажу: „Испытал! Испытал к Лидии Алексеевне Авиловой“». «Воспоминания Авиловой, написанные с большим блеском, волнением, редкой талантливостью – это пишет Бунин, – и редким тактом, были для меня открытием».
Воспоминания Авиловой? Как мог Бунин сказать, что они написаны «с блеском и редкой талантливостью»? Единственное объяснение этой удивительной оценки, это что Бунин вложил в воспоминания Авиловой то, чего в них не было. Из плохо написанных, неуклюжих фраз Авиловой воображение Бунина создало блистательную повесть о любви. Иначе – откуда взялись бы этот мнимый блеск и эта мнимая «редкая талантливость»? Вот как Авилова, например, описывает свою встречу с Чеховым – я привожу очень короткую цитату. «Мы просто взглянули близко друг другу в глаза. У меня в душе точно взорвалась и ярко, радостно, с ликованием, с восторгом, взвилась ракета. Я ничуть не сомневалась, что с Антоном Павловичем случилось то же, и мы глядели друг на друга удивленные и обрадованные». Звучит это донельзя фальшиво. Но это, конечно, ничего не доказывает, кроме того, что Авилова была плохой писательницей. Дальше она многократно повторяет, что она любила Чехова, и только его, и, судя по ее воспоминаниям, Чехов в свою очередь говорил ей, что он ее любил. Но и с ее стороны и с его стороны это было меньше всего похоже на всеобъемлющее и неудержимое чувство. Когда Авилова познакомилась с Чеховым, она была замужем и у нее был ребенок. После встречи с Чеховым она поняла, что любит только его. И тут же она пишет, говоря о своем муже: «Мы уже знали, что у нас будет Левушка». И дальше: «Явилось еще двое детей», характерна эта удивительная безличная форма – «явилось еще двое детей» – так, точно сама Авилова к появлению этих детей не имела никакого отношения. Она встретилась с Чеховым в 1889 году. В 1892 году она пишет: «Прошло три года. Я часто вспоминала о нем. У меня было уже трое детей – Лева, Лодя и грудная Ниночка». В чем же, собственно, выразилась эта любовь Авиловой к Чехову? В неосуществленных желаниях? В том, что она ничего не изменила в своей жизни? С другой стороны – в чем проявилось то большое чувство Чехова, о котором пишет Бунин? В редких письмах Чехова к Авиловой о любви даже не упоминается. Остается одно: слова Авиловой о том, что Чехов ее любил. Мы очень хорошо знаем, что большое, стихийное чувство не останавливается ни перед какими препятствиями. «Сильна, как смерть, любовь…». Что может быть более далекого от этого, чем отношения Чехова и Авиловой, которые не изменили ничего в их жизни? Может быть, это и была любовь, – далекая, неосуществленная, печальная в своем бессилии и своей бесплодности. Но назвать это большим чувством никак нельзя, чувством, которое не считается ни с чем – ни с условностями, ни с бытом, ни с семьей, ни с общественным мнением. Нет, вернее всего, Чехову действительно не было дано в жизни испытать это большое чувство. Но ему было зато дано многое другое.