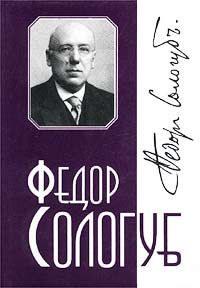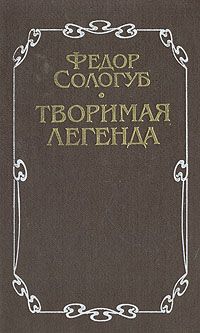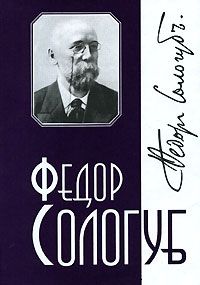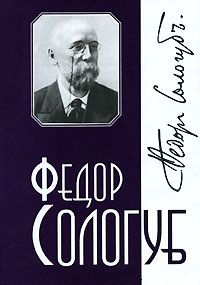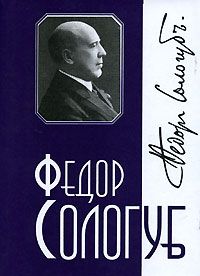Федор Сологуб - Том 4. Творимая легенда
Если в любви Сологуба – цвет раскаленной добела молнии, вспыхивающей между двумя полюсами, спаивающей огнем плюс и минус, то в любви Дон Кихота – цвет облака, стремящегося в бесконечную даль. Любовь Дон Кихота – мягка и добродушна, он никого не убивал; любовь Сологуба – беспощадна, Сологуб убивает.
Но оружие, которым убивает Сологуб, – это тот самый стилет, что у средневековых рыцарей назывался «мизерикордия» (милосердие): им, из человеколюбия, прикалывали раненых насмерть. Именно так – из человеколюбия, мизерикордией – закалывает Сологуб всех своих любимых героев, чтобы избавить их от горечи открытия в Дульцинее Альдонсы. В «Отравленном саду» – Юноша и Красавица, конечно, умирают, в первый раз обнявши друг друга. Конечно, умирает на пути в Дамаск рыцарь Ромуальд из Турени. И Вера – «Заклинательница змей» – в тот самый момент, когда ей остается всего один шаг до ее Дамаска, – несомненно должна умереть. И Сережа в рассказе «Звезды» – «бросается торопливо и радостно с темной земли к ясным звездам», чтобы умереть. И лучезарная Рая является Мите – в рассказе «Утешение» – для того, чтобы сказать: «Не бойся», – когда Митя кидается вниз с четвертого этажа. Так у Сологуба неизменно с каждым из тех, кого он любит. Это – милосердная жестокость сологубовской любви к человеку.
Но человек – человек только тогда, когда он в точности соответствует своему биологическому имени: когда он homo erectus, когда он уже встал с четверенек и умеет смотреть вверх, в бесконечность. К тем, кто еще на четвереньках, кто еще роется пятачком в земле, к Санхо-Пансам – румяным, дебелым, удовлетворенным, конечным – к ним Сологуб немилосерден; их он казнит жизнью, они никогда у него не умирают, они не могут умереть. Посмотрите: на всем огромном протяжении «Мелкого беса» не умирает никто, там бессмертны. Всегда говорят о бессмертии великих людей, героев – это, конечно, ошибка: герой неразрывно связан с трагедией, со смертью; неистребимо-живуч, бессмертен – мещанин. И для него, бессмертного, у Сологуба уже не мизерикордия, а другое немилосердное оружие: кнут.
Кнут еще мало оценен как орудие человеческого прогресса. Действительнее кнута я не знаю средства, чтобы поднять человека с четверенек, чтобы человек перестал стоять на коленях перед чем и перед кем бы то ни было. Я говорю, конечно, не о кнутах, сплетенных из ремней, я говорю о кнутах, сплетенных из слов, о кнутах Гоголей, Свифтов, Мольеров, Франсов, о кнутах иронии, сарказма, сатиры. И таким кнутом Сологуб владеет, может быть, еще лучше, чем стилетом мизерикордии. Прочтите две книги его сказочек – и вы увидите, что они еще так же остры, как и двадцать лет назад. Прочтите «Мелкого беса» – и вы увидите, что Передонов обречен бессмертью, обречен вечно бродить по свету, писать доносы и «всех значительных в городе лиц уверять в своей благонадежности».
За цветами нужно ухаживать, чтобы они росли; плесень растет всюду сама. Мещанин – как плесень. Одно мгновение казалось, что он дотла сожжен революцией, но вот он уже снова, ухмыляясь, вылезает из-под теплого еще пепла – трусливый, ограниченный, тупой, самоуверенный, всезнающий. И нужно, чтобы над ним снова просвистел бич сатиры, нужен новый «Мелкий бес».
Патент на кнут не без основания историей записан на имя России, но только на кнут из ремней: ирония, сатира в русскую литературу привезены с Запада. И хотя для сатиры нет почвы более урожайной, чем наш чернозем, – до сих пор у нас вызрело три-четыре полновес-колоса, и один из них, конечно, Сологуб. Причина этого отчасти в том, что в России Санхо-Пансы всегда были слишком слабонервны, чтобы у них хватало мужества спокойно слышать сатиру. Я не знаю, был ли когда отменен приказ Петра I: «За составление сатиры сочинитель ее будет подвергнут злейшим истязаниям». Но главное не здесь: просто русский писатель, за малыми исключениями, всегда был уже слишком по-русски добродушен и мягкотел. В этом Сологуб, к счастью, не русский: он умеет, когда надо, стать сталью, блестящей, беспощадной.
Европейское у Сологуба – не только в его сатире, весь его стиль закален европейским закалом и гнется по-стальному. Без малейших следов надлома или трещины он выдерживает стовосьмидесятиградусный перегиб от каменнейшего, тяжелейшего быта – в фантастику, от земли, пропитанной запахом водки и щей – в землю Ойле. Тонкое и трудное искусство – к одной формуле привести и твердое, и газообразное состояние литературного материала, и фантастику, и быт – давно уже известно европейским мастерам; из русских прозаиков секрет этого сплава по-настоящему, может быть, знают только двое: Гоголь и Сологуб.
Слово приручено Сологубом настолько, что он позволяет себе даже игру с этой опасной стихией, он сгибает традиционный прямой стиль русской прозы. В «Мелком бесе», в «Навьих чарах», во многих своих рассказах он намеренно смешивает крепчайшую вытяжку бытового языка с приподнятым и изысканным языком романтика; в «Ваньке-ключнике и паже Жеане» эти диссонансы заострены еще больше и осложняются очаровательной игрой намеренных анахронизмов, в «Сказочках» – новый уклон: игра гиперболированным фольклором. Всей своей прозой Сологуб круто сворачивает с наезженных путей натурализма – бытового, языкового, психологического. И в стилистических исканиях новейшей русской прозы, в ее борьбе с традициями натурализма, в ее попытках перекинуть какой-то мостик на Запад – во всем этом, если вглядеться внимательно, мы увидим тень Сологуба. С Сологуба начинается новая глава русской прозы.
Если бы вместе с остротой и утонченностью европейской Сологуб ассимилировал и механическую опустошенную душу европейца, он не был бы тем Сологубом, который нам так близок. Но под строгим, выдержанным европейским платьем Сологуб сохранил безудержную русскую душу. Эта любовь, требующая все или ничего, эта нелепая, неизлечимая, прекрасная болезнь – болезнь не только Сологуба, не только Дон Кихота, не только Блока (Блок именно от этой болезни и умер) – это наша русская болезнь, morbus rossica. Этой именно болезнью больна лучшая часть нашей интеллигенции – и, к счастью, всегда будет больна. К счастью потому, что страна, в которой уже нет непримиримых, вечно неудовлетворенных, всегда беспокойных романтиков, в которой остались одни здоровые, одни Санхо-Пансы и Чичиковы, – раньше или позже обречена захрапеть под стеганым одеялом мещанства Быть может, только в огромном размахе русских степей, где будто еще недавно скакали не знающие никакой оседлости скифы, могла родиться эта русская болезнь. При всем своем внешнем европеизме Сологуб – от русских степей, по духу – он русский писатель куда больше, чем многие из его современников, например, Бальмонт или Брюсов. Жестокое время сотрет многих, но Сологуб – в русской литературе останется.
Комментарии
Творимая легенда*
Впервые – в альманахах издательства «Шиповник»: Навьи чары. Роман. Часть первая. Творимая легенда. СПб., 1907. Кн. 3; Навьи чары. Роман. Часть вторая. Капли крови. 1908. Кн. 7; Навьи чары. Роман. Часть третья. Королева Ортруда. 1909; сборники «Земля»: Дым и пепел. Роман. Сб. 10,11. М.: Московское книгоиздательство, 1912. Вторая и окончательная редакция романа с новым названием (вместо «Навьих чар» – «Творимая легенда»; четыре его части были сведены в три) появилась в изд.: Сологуб Ф. Собр. соч. СПб.: Сирин, 1913–1914. Т. 18, 19,20. Печ. поэтому изд. В тексте второго варианта изменения коснулись не только названия: в романе некоторые эпизоды сняты и написаны новые, произведены перемещения фрагментов глав. Как отмечает публикатор первого и пока единственного современного издания «Творимой легенды» А. И. Михайлов, «всем этим достигалась цель не только более упорядоченного и гармонического распределения материала, но и большего прояснения основной концепции романа. Да, собственно, и заменой заглавия она уже достаточно определилась в более оптимистическую сторону. „Навьими чарами“, несомненно, подчеркивалась мысль об активности „мертвых“, роковых, неподвластных человеку сил иного бытия. „Творимая легенда“ же в качестве основной действующей силы предполагает уже только самого человека. Все герои романа участвуют в творчестве легенды. Одни своей красотой и добротой, другие просто красотой без доброты, третьи своими преступными наклонностями, заключенной в них силой зла, четвертые своими несчастьями и почти все своей любовью, страданием и мечтой. А над всеми ими возвышается подлинный демиург этого огромного мира, созидаемого творческой силой духа, – сам автор» (М.: Современник, 1991. С. 566).
Прочитав еще только первую часть романа, М. А. Волошин решительно заявил: «Сологуб остается совершеннейшим мастером прозы среди декадентов» (Волошин М. Леонид Андреев и Феодор Сологуб // Газ. «Русь». 1907.19 дек. № 340). Эта статья Волошина и его же вторая «Похвала моралистам» (Русь. 1908. 9 апр. № 99) открыли серию публикаций критиков, которые вслед за ним провели сопоставительный, параллельный анализ творческих методов двух крупнейших художников начала века – символиста Сологуба и экспрессиониста Андреева, отдавая предпочтение новаторству первого: см. статьи Вл. Кранихфельда в «Современном мире». 1908. № 1; В. Львова-Рогачевского в «Образовании». 1908. № 2; Л. Я. Гуревич в кн. 7 «Шиповника» и «Правде жизни». 1908.8 дек.; Е. Лундберга в «Заветах». 1914. № 2; В. Воровского в сб. «О веяниях времени». 1908; Р. В. Иванова-Разумника в кн. «О смысле жизни». СПб., 1908.