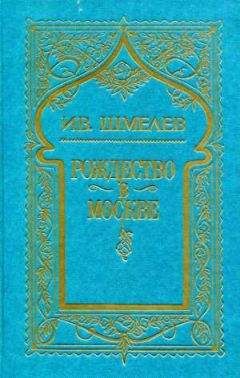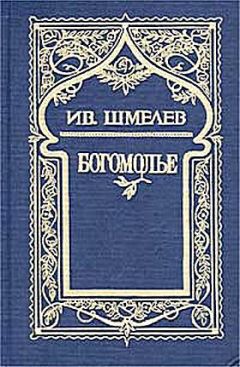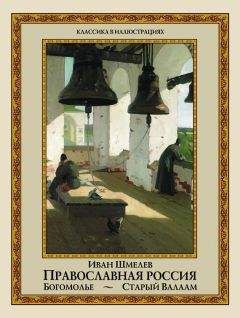Иван Шмелев - Том 8. Рваный барин
– Век буду Бога молить за упокой – за здравие. Имечко-то ваше праведное скажите.
– А зовут меня, – говорит, – Мастер Тайм!
_ Что-то я святого такого и не слыхала… – Матрена-то Ивановна говорит.
– Напрасно-с… – тот-то ей да таково строго. – Самый святой из святых. Всякие болезни исцеляет и никогда ошибки не дает, будьте покойны. А по-вашему – Время, называется.
А свое дело понимает: все штучки об камушек прозвонил, в кошель ссыпал, чемоданчик в руку, ощерился и – прощай, мамаша!
– За Время-то и деньги платят! Это уж – наша. Зато прочно-с, можете быть спокойны: повторения не случится, с ручательством!
Трубочку закурил и айда – к себе, в Лондон.
И пошла Матрена Ивановна опять калачами-баранками торговать. А Ванюшка – диву дались! – все Городище пряниками засыпал: ешь – не надо!
Октябрь 1919 г.
Алушта
Панкрат и Мутный
ДЕЛО БЫЛО В СОЧЕЛЬНИК, К НОЧИ
Панкрат, мужик строгий, хозяйственный, поделал все положенные дела: нарубил хворосту старухе, задал корма скотине, принес воды, закрестил запоры и покрепче припер колом ворота. Время было разбойное. Старуха тоже дела покончила, разлила по мискам свиной студень, – будет чем разговеться! – поставила под лавку и накрыла от мышей корытцем. С мороза да с теплого свиного духу Панкрату захотелось студню, но он поглядел на картинку – «Смерть Грешника», с рыжим и тощим грешником у зеленого черта в лапе, – и воздержался. Сидел – подумывал: спать, что ли?..
Под лампочкой с набежавшими тараканами, Степан, заявившийся «со всех фронтов», вычитывал на газетке, выворачивал слова, и приговаривал, возя носом: «Во!» От слов Панкрату было не по себе. И стало ему мерещиться. Похож… Сморгнул, опять поглядел… – по-хож! Потер глаза, пригляделся – и жуть взяла!..
«Ну, до чего похож… только не говорит, не олит!.. – думал Панкрат, приглядываясь, – и рыжий такой, и верткий, тощий… самый он, Мутный».
Самый он! Приезжал под Миколу, с кожаной сумочкой на замочке, шумел в училище, доказывал про свою веру. Про землю говорил мутно, требовал отобрать, – это Панкрат понял, – чтобы ренду ему платили! – кричал, что нет никакой вер-отечествы, а… самое это слово, в версту, и вычитал Степан на газетке. Еще говорил про капиталы, что надо их отобрать. Осталась на душе муть. Так и обозвал его Панкрат: Мутный! И вот, он самый и есть, в картинке!
Признав его на картинке, Панкрат плюнул и отвернулся. Посидел, опять поглядел: самый он! Опять плюнул. Старуха забранилась:
– Чего расплевался-то? Только им вымела, опять мыть?..
– Ну тебя!.. – отмахнулся Панкрат, расстроился.
Забыл про зарок – до розговен не курить – насыпал трубочку, задымил.
– Бога-то бы хоть не коптил до Праздника!.. – забранилась опять старуха и тоже плюнула.
Время было и спать. Панкрат покурил, слушая из газетки, заскучал, перекрестился на темного Миколу с догоревшей лампадкой, – масла не напокупаешься! – и полез на печь, под овчины.
На дворе крепко морозило, постреливало в бревна.
– Здорово долбает! – сказал Степан. – По Москве так-то намедни шпарили!..
– Забаву какую взяли! – сердито отозвалась старуха, откидывая творог. – Может, и Мишутка с ими, душу губит!..
– Дураков-то понаделали… – позевал на печи Панкрат. – Намутили-намурили… овса ни у кого не стало!..
– Энто мы разберем, досуг будет… – сказал Степан. – Называется… очередями шпарим! Только Мишка по другому делу, которые без сознания. Называется, в Питере по погребам лазит… кот-рыволюцанер!
Старуха опять плюнула.
Степан высчитывал, как били друг дружку в Казани и в Рязани, на Дону, и под Белгородом; сожгли-выпили водочный завод и разграбили сахарный; как семерых повесили на сосне, а троих сожгли на костре…
– До-шли… – позевал Панкрат.
– …орен…тацея…прын…цы…пов…прынцов…ан…терна…лизма!.. Во!
– Да буде тебе, жуть!.. – отозвался с печи Панкрат. – Пра-здник!
Стало ему дрематься.
Думалось: уйдет Степан – надо вынуть из-под полу, у двери, замотанное в клубки шерсти, в лузге, – две сотенные бумажки, двенадцать серебра и три золотых, и закопать в риге, поглубже. Станут капиталы отбирать… и лихого народу много. Овса бы засеять надо. На Святках усадьбу делить станут, скирдищи какие не обмолочены… Парочку бы лошадок лохмоногих, из-под орудиев. Степашка сказывал, руку в комитете надо. Увидал громадную рыжую корову, из усадьбы: стоит во дворе, столб языком трясет… Потом – поле с войском крестцов и облюбованный «Черный Клин», две десятины чернозему, под конопляники… Лежит Панкрат на «Клину», слышит, как крепко навозом тянет, раскинул руки и думает: «Вся – моя!» И вот, слышит: – Подавай капиталы!
И не в поле он, а в избе. И, будто, все тот же вечер, и лежит на столе газетка, и потрескивают бревна. Лампочка чуть повернута, у Миколы не теплится лампадка, окошки совсем обмерзли, как сахарные. Мороз, видно, крепкий, звонкий.
Огляделся Панкрат: кто у него капиталы требует? Взглянул под лоханку, в угол, где деньги в клубках схоронены… Человек!.. Сидит человек на лавке, ножкой покачивает. И обомлел: Мутный, за капиталами!..
– За капиталами! – говорит Мутный.
Хотел Панкрат крикнуть, а язык не ворочается. Смотрит: одежа городская, тройка, в серую клеточку, башмаки на шнурочках, и цепочка поблескивает. А у бока-то сумочка, на замочке, с бумагами и печаткой. Из себя жигулястый, сидит – будто, на шиле вертится, ногу на ногу закидывает, юлит: то к стенке прикачнется, то коленку к самой бородке вскинет, руками и прихватит. Самый-то он и есть, Мутный! Лицо квелое, волосы рыжие, линялые, на зачес. Подивился, как это в избу к нему забрался: ворота колом приперты!
А Мутный поюлил-повихлялся, показал зубы, мелкие, как у мыши, и – опять:
– Подавай капиталы!
Так Панкрат и захолодел! Видит: карманы здорово оттопырило – с оружьями они ходят! И зашептал хитро, чтобы посмелей казаться:
– Какие, господин, у мужиков капиталы! Вон, сын с войны воротился, бонбандер… на лавке спит с левонвертом!..
Глядит – а Степана нет! А Мутный прихватил коленку и закачался, ощерился:
– Степан за нас записан-запечатан! – и похлопал по сумочке. – Подавай капиталы, пятьсот рублей!
Хотел Панкрат Степана позвать, а голосу нет. Закланялся:
– Нет у нас, господин, овсинки-порошинки, а не то что… Христов Праздник, а и хлебца нет…
Да и засекся: здорово свининой пахнет! Подумал: учует Мутный! А тот уж носом повел и спрашивает, строго:
– А почему сту-день?! Из каких капиталов? Почем нон-че свинина?! Вон, под лавкой, на цельную неделю запасено?!..
Закланялся Панкрат, стал голоском умасливать:
– Старуха это, должно, ваше благородие… необразованная!., у соседев, значит, призаняла, для-ради Праздника… сту-денькю наварила, как я за дровишками в лесок отлучился… Сынок с войны пришел, для его!..
А Мутный в бородку фукнул, гаркнул, как становой-покойник:
– Впротокол составлю! Какой губернии-уезду? сколько овец-лошадей-коров? винтарю живого-мертвого?!..
«Куды добивается! – подумал Панкрат, – про капиталы-то забудет, может…»
И стал похрабрей хитрить:
– Вам бы, ваше благородие, к столику, под картинку… способней бы впротокол писать!.. Сын-то до ветру вышел, руку приложить некому…
А Мутный все, будто, понимает. Сидит – не подается, пальцем под лоханку тычет:
– По-чем лузга?!..
Стал было божиться Панкрат, да как поглядел к картинке… – ну, самый он… в лапе у зеленого зажат с мешочком! Рука и не подымается. Пошел отводить увертками:
– И как это вы, вашбродие, скрозь забор-то… не повредились?.. В окошечко хоть бы стукнули… И кто же вы теперь будете, по каким пунхтам?..
А Мутный – пальцем в газетку, и прочитал, как Степан:
– …ан-тер… нализма!..
Прикинулся Панкрат, будто не понимает:
– Та-ак… А это чего ж такое?.. А тот и почал доказывать:
– Ор-ган для всего мира! Зажгем факелом весь свет!..
– Так-так… понимаем, ваше благородие… для све-ту!.. – закланялся-зашептал Панкрат. – Самые вы наши… эти… благодетели!., яишенку не желаете ли, ваше благородие?..
Подманивал Мутного к столу, от уголка подальше, всех тараканов посбил. А сам все тужился – вспоминал: топор-то куда засунул?.. А Мутный перегнулся – и сует голову под лавку… – в самую-то бы пору топором!
– Крысы, ваше благородие, там… в морду даже цепляются… Кры-ыс у нас, вашбродие… полно подполье!..
И увидал: торчит топорище из подпечья! Потверже на ногах стал. А Мутный – носом под лавку, и говорит:
– Не будет пощады капиталам!
Панкрат ступил пяткой на топорище, сказал сурьезно:
– Вовсе пустой разговор. Нет у нас капиталов!