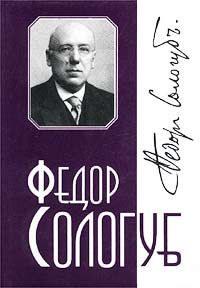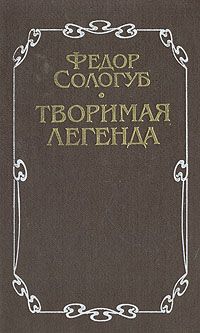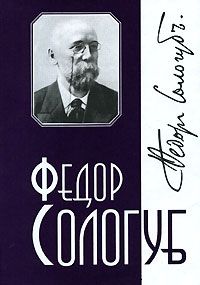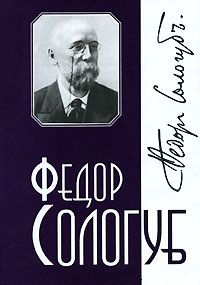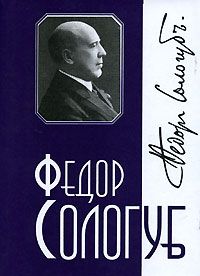Федор Сологуб - Том 4. Творимая легенда
Около дворца и около парламента произошел уличный бой, краткий, но ожесточенный. Войска Танкреда были разбиты наголову.
Танкред пытался взойти на один из военных кораблей. Но в решительную минуту большая часть флота оказалась верною национальному конвенту. Паровой катер, на котором выехал из старого дворца Танкред, был встречен огнем скорострельных пушек Гочкиса. Пришлось вернуться.
Принц Танкред прятался в старом королевском дворце. Выхода не было. Войска конвента окружили дворец. А на море корабли, ставшие за Танкреда, отчасти были потоплены, отчасти, сильно подбитые, бежали. Танкред слышал, что есть подземный ход, но никто не знал, откуда этот ход начинается.
Принц Танкред спрятался в круглой башне, на вершину которой восходила Ортруда. Он слушал в своем убежище шумные крики солдат. Был один. Смотрел на звездное небо. Искал утешения в молитве.
В это время граф Камаи нашел, что пора предать Танкреда. Он переговорил с одним из командиров национального войска. Пехотный батальон был введен во дворец. Бесшумно ступая босыми ногами по мрамору коридоров, солдаты шли за графом Камаи. Слышался только отчетливый стук легких каблуков предателя.
Он подошел к двери в круглую башню и постучал. Послышался голос Танкреда:
– Кто там?
– Граф Камаи, ваше величество.
– Войдите.
Открылась дверь. Вошел граф Камаи.
Танкред радостно встретил его. Сказал:
– Последний верный друг. С чем вы приходите ко мне, граф?
Двусмысленно улыбаясь, граф Камаи отвечал:
– С солдатами, ваше величество.
И следом за ним ворвались солдаты, пыльные, потные, злые.
Граф Камаи отошел в сторону.
Принц Танкред защищался яростно и храбро. Его убили. Изрубленный труп его выбросили из окна на мостовую.
И лежал он всю ночь средь буйствующей столицы. Рано утром пришла цыганка. Она села над трупом и завыла горько:
– Танкред, безумный Танкред! Отдай мне мое золото!
Пришли солдаты, грубо оттолкнули цыганку, подняли труп и отнесли его в замок. Виктор Лорена распорядился, чтобы его хоронили со всеми почестями, приличными члену королевского дома. У принца Танкреда на континенте были родственники, и их не следовало раздражать.
Предательство графа Камаи не принесло ему никакой пользы. Ему предъявили обвинения в том, что, получив в свое распоряжение военный отряд для арестования принца Танкреда, он не принял мер для ограждения личной безопасности принца. Графа Камаи арестовали и повезли в тюрьму. По дороге толпа напала на его экипаж и оттеснила немногочисленный конвой. Графа Камаи вытащили из кареты и повесили на уличном фонаре.
Приверженцы погибшего принца Танкреда пытались бежать из Пальмы. Но мало кому из них это удалось. Министры Танкреда были арестованы. Верховный суд приговорил герцога Кабреру к смертной казни через расстреляние, остальных к пожизненному тюремному заключению.
Приверженцев Танкреда, взятых с оружием в руках, предавали военному суду, и он приговаривал их к смертной казни. Других просто убивала толпа, вешая на уличных фонарях. Так погиб в руках разъяренной толпы кардинал Валенцуэла.
Свирепые «дамы рынка» опять принялись истязать нарядных дам. Элеонору Аринас размыкали по приморскому шоссе, как древнюю Брунгильду. Только вместо лошадей взяли ее автомобиль, на котором она пыталась выбраться из Пальмы.
Дом Любви Христовой был разрушен, и пансионерок его жестоко избили.
Но никто не знал, что будет дальше и что теперь следует делать. Ни одна мера, вносимая в конвент, не собирала за себя большинства голосов. Ни одна партия не могла увлечь за собою весь народ Соединенных Островов.
Казалось, что Соединенным Островам предстоят дни смут, кровопролитных междоусобиц и, быть может, грозит присоединение к какому-нибудь из соседних государств или раздел между ними. К Пальме уже двигались иностранные корабли с сильными десантами.
Но вдруг в Пальме увидели с высоты небес световые сигналы. Огненные буквы на вечерних облаках возвестили:
– Король Георгий, королева Елисавета и наследный принц Кирилл спаслись и приближаются к Пальме на воздушном корабле.
Утром на прибрежье близ Пальмы медленно опустился громадный, великолепный хрустальный шар, подобный планете. Он тяжело вдавился в рыхлый морской песок и до половины ушел в землю. Толпы народа бежали из города и из окрестных селений к невиданному предмету, опять обратившемуся в громадное, полушаровидное хрустальное здание.
Двери этого великолепного голубого здания открылись. Король Георгий Первый вступил на землю своего нового отечества, чтобы царствовать в стране, насыщенной бурями.
Приложение
Максимилиан Волошин. Леонид Андреев и Федор Сологуб*
Еще несколько лет тому назад «альманахи» были убежищами для – «посвященных», отмеченных знаком «Скорпиона» или «Грифа».
На страницах их, как в катакомбах, встречались немногие верные, знавшие друг друга в лицо.
Но времена изменились.
Альманахи из катакомб превратились в салоны, в которых, не стесняя друг друга, могут встречаться наиболее несовместимые, наиболее далекие друг другу современники.
Встречи эти бывают невероятны, но это имеет свою прелесть.
Кто дерзнул бы сопоставить, кто попытался бы провести сравнения между этими писателями, столь несхожими, если бы они не оказались связанными страницами одной книги?
Та часть русской публики, которая любит в Леониде Андрееве его мучительные искания и ценит его как мыслителя по «Жизни Человека» я по «Елеазару», та публика не знает и не понимает ни горького сарказма, ни тонких намеков, ни сложной мифологии, ни классической простоты языка Сологуба.
* * *Те же (пока еще немногие), кто любят в Сологубе то совершенство языка, которое ставит его прозу новою ступенью в истории русской речи, несравненное искусство построения и его точный прозрачный символизм, те не интересуются искренним, но неглубоким пессимизмом, сильным, но грубым пафосом Леонида Андреева.
Сологуб и Леонид Андреев нисколько не противоречат и не уничтожают друг друга, они не олицетворяют двух каких-либо полюсов в русской литературе, они никак друг другу не соответствуют, они иррациональны.
Быть может, даже если мы сможем отрешиться от всех форм и требований искусства, то мы найдем между ними некое отдаленное сходство, которое сведется к безвыходной муке земного воплощения и к тому осадку горечи и отчаяния, который неизбежно остается в душе, принявшей в себя обманное марево их произведений.
И в то же время сопоставление их на страницах альманаха «Шиповника» производит впечатление антитезы.
Это впечатление, в глубине неверное, возникает потому, что Леонид Андреев является как бы оригинальнейшим мастером в группе беллетристов, взошедших под знаком «Знания», в то время как Сологуб остается совершеннейшим мастером прозы среди декадентов.
Но между группой «Знания» и декадентами тоже нет противоречия, а есть только та иррациональность, что вообще существует между реализмом и символизмом.
Леонид Андреев и Сологуб соединены в одной книге только нумерацией страниц: от 9 до 67 – Андреев, от 189 до 305 – Сологуб.
Не похоже ли это на страницу учебника физики, где мы читаем, что вибрации от 32 до 32768 мы воспринимаем в качестве звука, и те же самые вибрации между 35 трильонами и двумя квадрильонами – в виде света?
Я хочу сказать, что та безвыходность отчаяния, которая одинаково живет в обоих этих писателях, в Леониде Андрееве является нам в виде звука, т. е. крика во «Тьме», а в Сологубе в виде света, озаряющего целую систему темной вселенной.
Искусство их так же несравнимо, как звук и свет, хотя рождено из того же потрясения человеческой души.
Есть разница и в диапазоне этих художников.
В то время как Сологуб захватывает всю семицветную радугу света от ультракрасных до ультрафиолетовых лучей, Леониду Андрееву доступны только высшие ноты напряжения звука.
В распоряжении его нет оркестра звуков – он не знает ни ласкового шепота, ни тихих мелодий песни, потому что голос его надорван от крика.
Этот хриплый и прерывающийся крик надрывает сердце своим отчаяньем. В этом, а не в искусстве письма тайна того впечатления, которое производит Андреев.
Художник прежде всего музыкант.
Художник познает законы жизни, т. е. гармонию ее, независимо от его личного приятия или неприятия мира.
У Сологуба, например, познание музыкальной гармонии мира доведено до высших ступеней, но мира он не принимает и жаждет сладкого небытия, мед смерти предпочитает желчи жизни.
С этой точки зрения Андреев совсем не художник. Он не ищет тех внутренних законов, по которым строится жизнь и по которым вырастает Дух.