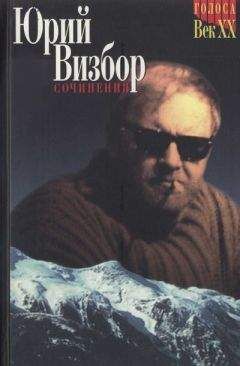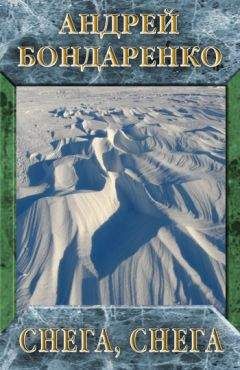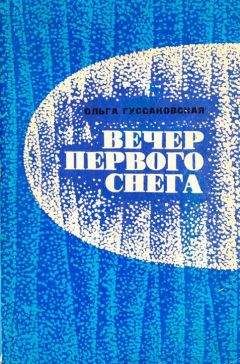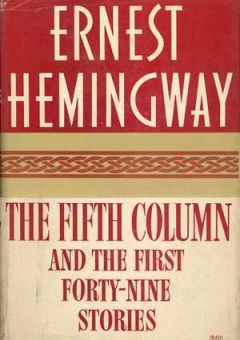Алексей Толстой - Том 3. Художественная проза. Статьи
Если бы кто нашёл, что все сказанное мною разумеется само собой и что я, по французскому выражению, взламываю незамкнутую дверь, — я тому отвечу, что совершенно с ним согласен, но в оправдание себе укажу на распространившуюся доктрину о каких-то русских началах, на которых должны у нас развиваться наука и искусство.
Есть русские нравы, русская физиогномия, русская история, русская археология; есть даже русское искусство — но нет русских начал искусства, как нет русской таблицы умножения. Нет, в строгом смысле, и европейских начал, а есть начала абсолютные, общие, вечные. Можно сомневаться в верности их определения, но не их существования; можно спорить о их сущности, но не о их применимости. И если бы даже которое-нибудь из этих начал не было достаточно уяснено, то с минуты своего уяснения оно станет обязательно для всех наций без исключения. Которое же из них признано годным для одного народа, то годно для всех народов, ибо перед законодательством искусства нет привилегированных классов.
С этими абсолютными началами не следует смешивать ни ту национальную физиогномию, которую невольно выказывает каждый драматург и каждый исполнитель и которая в иных случаях бывает недостатком; ни те национальные особенности, которые принадлежат по праву всем драматическим лицам, смотря по их народности, и с которыми соображаться есть долг и обязанность. Мы требуем как от драматурга, так и от исполнителя, чтобы каждое лицо действовало в нравах своей нации (русская ли она или другая — всё равно), и несоблюдение этого правила заслуживает порицания; но иное грешить против национальности, иное против законов искусства, и каждый из этих проступков подлежит особой подсудности. Спутывать национальные нравы с небывалыми национальными началами искусства — значит вносить неясность в понятия не только артистов и публики, но и самих писателей. Так называемая живая струя, «которая бьёт из самобытного родника русского творчества», если она рождает действительно художественные произведения, бьёт, без сомнения, из родника, общего всему художеству, как бы ни были национальны её краски. Если же она бьёт из другого источника, то, при всей национальности красок, никогда ничего не произведёт истинно художественного. Туманные выражения вроде: «Своеобычная форма исторического развития русского народа», или «Родовые черты бытового начала», или «Условия родовых отличий русской жизни» — и так далее, которые выдаются нам за предтечи новых, оригинальных законов творчества, переводятся очень просто словами: «Русские нравы, русская физиогномия». Само собою разумеется, что держаться этих условий на русской сцене есть долг как драматурга, так и исполнителя; но нет причины давать этому простому правилу какой-то глубокий, таинственный смысл. Писатель, который заставил бы Дмитрия Донского петь серенаду под балконом своей возлюбленной, или актёр, который в роли Пожарского стал бы расшаркиваться, держа шапку под мышкой, оба провинились бы не перед русскими началами искусства, а перед русскими нравами и русской физиогномией. И странно было бы говорить про них, что они нарушили «своеобычные условия родовых отличий», или приписывать их нелепость тому, что ещё не открыта какая-то «струя» или «своеобычная форма русской исторической драмы». Такого рода фразы затемняют самые простые понятия и уподобляются учёному, глубокомысленному отыскиванию рукавиц, торчащих за поясом.
Итак, пусть не смущаются ими наши исполнители, но, оставаясь русскими с головы до ног, тем не менее свято соблюдают общие законы искусства, обязательные для всех наций, и не упускают из вида главного из них: закона идеальной правды, который есть краеугольный камень всякого художества.
В заключение скажу, что, какому бы искусству мы себя ни посвятили, оно никогда не даётся нам даром и что если нет художника без вдохновения, то одно вдохновение не составляет художника. Какие бы ни были природные дарования живописца, зодчего, ваятеля, музыканта или поэта, если они не подвергнут себя самой строгой дисциплине, они не возвысятся над посредственностью. Успех же, приобретаемый ими, иногда на счёт честного исполнения дела — есть стыд, а не торжество.
Первая степень дисциплины драматического артиста — это буквальное изучение своей роли; вторая — присвоение себе передаваемого характера в его малейших подробностях, с отбрасыванием всего, что не составляет его сущность; третья — согласование своей роли с прочими ролями пьесы и держание себя на подобающем градусе яркости, ни выше, ни ниже.
Это согласование ролей, которое называется у нас неприятным именем: ансамбль, и которое можно бы заменить словом: дружность, есть преимущественно дело режиссёра. Оно так важно, что без него никакое художественное исполнение немыслимо. Живописец, ваятель, зодчий или поэт зависит каждый от себя самого; но драматический артист, равно как и музыкант, участвующий в симфонии, зависят каждый от своих товарищей, как и эти от него зависят. Малейшее между ними несогласие производит диссонанс, разладицу, фальшь, и ответственность за это лежит на режиссёре, который есть капельмейстер труппы.
Мы удивляемся иногда, что между драматическими художниками, которых общее согласие единственно упрочивает успех их общего дела, так трудно найти это согласие; но причина тому в самом существе их искусства. Исполнитель живёт только в настоящем времени; в нём одном лежат его успех и торжество. Другие художники, если они не признаны современниками, могут надеяться на одобрение потомства; исполнитель ожидает его только от современников. Отсюда его жажда рукоплесканий; отсюда его уступки вкусу публики, хотя бы этот вкус противоречил его артистическим убеждениям; отсюда его желание быть замеченным, во что бы то ни стало, хотя бы в ущерб пиесе. Но действующий так — ошибается. Правда окончательно берёт верх над неправдой, и хотя у исполнителя короче срок, чем у другого художника, чтобы заставить публику его оценить — но жизни его на это достаточно. Вспомним покойного Щепкина, который, никогда не спускаясь до уровня толпы, тем самым заставлял толпу подыматься до его высоты. Художник, жертвующий своею совестью минутному торжеству, перестаёт быть художником, ибо он забывает, что уже одно служение искусству заключает в себе свою награду. Пусть лучше он останется непризнанным, пусть лучше вся пиеса упадёт и провалится, чем допустится посягательство на достоинство искусства! В этой области более, чем во всякой другой, должно царить правило: «Вершися правда, хоть свет пропадай!» Fiat justitia, pereat mundus!
<1868>
Приложение
Басня о том, что, дискать, как один философ остался без огурцов
Вот, я вам скажу, был однажды один — огородник. А что вы думали, я скажу один философ? нет, не философ; философ будет после, а это только огородник, вот так только огородник, да и полно. Ну вот этот огородник, знаете, когда пришла осень, то-есть не осень, а весна, начал сажать разные овощи, там бобы, картофель, стрючки разные и прочее. Вот он, знаете, так землю копает, потеет, а в зубах держит финик. Вот на ту пору проходит его отец, г. Златогор, и говорит ему, что ты дискать дурак, ибо финик требует достаточного времени, чтобы вырости и дать плод. Огородник, знаете, был не промах, он слушал, слушал, плюнул и сказал: «К сластям робята падки, а финики ведь сладки». Вот и выходит, что отец остался в дураках, то есть это еще не самая басня, а так, интермедия, а басня будет после обеда, поевши мягкого хлеба. Ну вот, этот, как бишь его? огородник! хорошо, да, огородник, и копает землю и так, знаете, потеет, так, знаете, и лоснится, даже индо гадко смотреть точно свинья, переверни страницу, точно свинья, так и кряхтит и копает, даже вонь от него идет, так и пахнет гумми эластиком, а петух, знаете подбирает из-под него жемчужные зерна и говорит, что дискать легче своротить солнце с пути его, нежели Фабриция с пути чести. После того проходит мимо Философ. Вот видите, дождались же философа! проходит мимо философ. Вот, увидев философа, огородник и думает: дай-ка я ему сделаю штуку! и начал кричать изо всего горла: философ, а философ! а философ! тот воротился и говорит: чего тебе, а? чего тебе? а? — Огородник. Как ты думаешь, что я теперь делаю? Философ. Ты делаешь яму. Огородник. На что? Философ. Так, на что-нибудь. Огородник. Нет, не так! Философ. А как? Огородник. А вот так. Философ. Как так? Огородник. Я буду сажать. Философ. Что ты будешь сажать? Огородник. Отгадай! Философ. Капусту? Огородник. Больше. Философ. Морковь? Огородник. Больше. Философ. Стрючки? Огородник. Больше. Философ. Ну так говори сам, дурак. Огородник. Я буду сажать — слушай — я буду сажать — огурцы! Философ. Огурцы? — Огородник. Огурцы! — Ну тут, знаете, философ и говорит ему этак высокопарно, знаете этак торжественно, этак все тезоименитным слогом — ведь они все, философы такие, ведь и Вольтер был философ, и Дидерот был философ! Они все этак, знаете, красно говорят, кажется сначала этак все приятно, а посмотришь? и выйдет Пюсель д'Орлеан! Ну так вот я говорит, что, говорю, что философ этак и говорит огороднику, что, говорит, ты напрасно, говорит, трудишься, говорит, огурцы, говорит, можно сажать и не трудясь, говорит. Я, говорит, хочу сам сажать огурцы, без всяких трудов, а только помощию геометрических исчислений. Ну вот, знаете, покамест философ трудится, ломает голову, у огородника огурцы так, знаете, и ростут, вот так и ростут. Ну вот, тут приезжают к г. Златогору гости и их всех подчивают огурцами. Г. Златогор этак радуется и целует огородника в лоб. Ну а философ — ха, ха, ха! — философ остался — философ остался без — философ остался без — чего вы думаете? — Ну уж сами отгадайте я не скажу. — Ну уж так и быть, скажу: философ остался — без моркови! А что вы думали? я скажу без огурцов? Так нет-же, без моркови! — А мухи-то, высунули свои машинки и говорят: мы пахали!