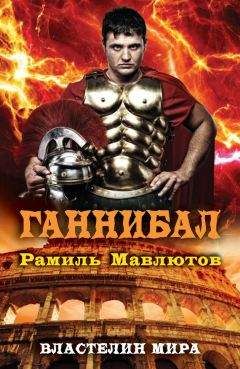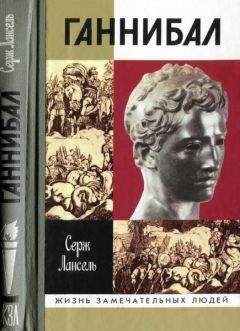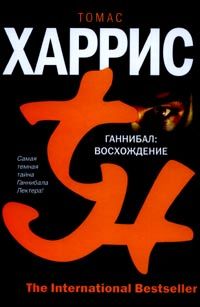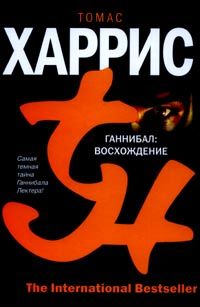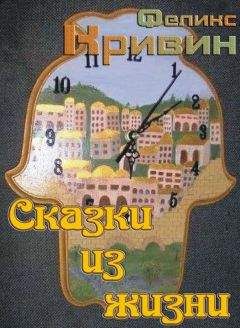Феликс Кривин - Упрагор, или Сказание о Калашникове
"Ну, это распространенное историческое явление, - кивнул знаток исторических явлений. - Некоторые исследователи считают это закономерностью: чем больше высоты, тем больше пустоты. Я не хочу называть имен: хотя их высота уже рассекречена, но пустота пока что в спецхране".
Калашников еще несколько раз переводил разговор на Горуню, но разговор почему-то тут же оказывался на Шипке или Сапун-горе. Наконец-то старичок посоветовал обратиться к Энне Ивоновне, которая, кстати, была обыкновенная Анна Ивановна, но было неудобно называть так обыкновенно главного завсекса.
"Зав... кого?" - Калашников почувствовал, что его прошибает пот. Но все оказалось намного проще и спокойнее.
Оказалось, Энна Ивоновна - завсекс в смысле заведующего сектором справок. И старичок к ней как раз собирался, чтобы передать рассекреченные работы дедушки Калашникова. Здесь, в отделе умолчания, дедушка - уже в Посмертном заключении - провел сорок лет, но посмертная жизнь бессмертна, это давно доказано, и каждый дождется своего часа.
Старый заведующий достал со стеллажа папку.
"Мне бы хотелось, чтобы вы сами ей отнесли. Внук освобождает дедушку из тюрьмы - в этом есть что-то символическое".
Он протянул Калашникову папку, аккуратно перевязанную ленточкой. Калашников дернулся по направлению к папке и обмяк: у него на глазах скоропостижно скончался его дедушка.
На папке значилось: "Труды профессора Индюкова".
"Вы самолично доставите эту папку нашей великолепной Энне Ивоновне. Там у нее на дверях табличка: "Скоро буду", но вы не обращайте внимания. Это она предупреждает своих поклонников, что она скоро у них будет, чтоб они на работе не морочили ей голову".
Он протягивал Калашникову папку, но Калашников папки не брал. Старик продолжал протягивать, но Калашников продолжал не брать. Наконец он сказал, что ему очень жаль, но это не его дедушка.
"А чей же, интересно? Уж не мой ли? Вот здесь черным по белому написано: "Труды профессора Индюкова".
Отпевание кончилось. Гроб стали засыпать землей. "Дедушка, куда же ты?" - хотел крикнуть Калашников, но сдержался и сказал почти спокойно: "Он Индюков, а я не Индюков".
"Вы не Индюков? А где же Индюков?"
Свежая могила. Вокруг печаль. "Индюков пьет пиво в буфете".
8
Вера Павловна рассказывала о своей не то родственнице, не то соседке. У нее, представьте себе, два сына. Один - здоровенный балбес, учиться не хочет, а хочет - что бы вы думали? Жениться. Так и говорит: не хочу учиться, а хочу жениться. А старший - студент, способный мальчик, но возомнил, что ему все позволено. Убил какую-то старуху. Теперь его будут судить. Ну каково это матери? Ох, дети, дети... Тут один старичок ходит, покупает книжки. Все Шекспира спрашивает. У бедняги три дочери, а жить негде. Все, что имел, роздал детям, а они его выгнали, ну можно такое терпеть? Совсем с горя сдвинулся старик, теперь ходит, спрашивает Шекспира.
Покупательница, божий одуванчик, из тех, которые живут на земле в состоянии невесомости, хотя жизнь упорно приучает их к перегрузкам, слушала внимательно, не перебивая, поскольку оставила дома слуховой аппарат. Потом вдруг сказала:
"В наше время инфарктов не было. А теперь ничего нет - одни инфаркты".
"Тут один бегал от инфаркта - и все за женщинами, - включился в разговор веселый молодой человек. - Такую развил скорость, что прибежал к инфаркту с другой стороны..."
Но Вера Павловна не давала сбить себя с темы: у нее у самой детство было трудное, отдали ее в люди. Написала бабушке, чтоб ее забрала, а на конверте - глупая была - написала: "На деревню бабушке".
И тут Калашникова как громом ударило: она!
Своей-то биографии у нее нет, вот она и рассказывает, что вычитала из книжек. Когда нет своей биографии, приходится пользоваться чужой. Сколько Калашников примерял к себе чужих биографий! Вот и она примеряет... Как же это не пришло ему в голову? Ведь чужая биография - это главная примета. Она ведь, его единственная, тоже не имеет своей биографии, поэтому и пользуется чужими, самыми известными...
В другое время это открытие обрадовало бы Калашникова, но сейчас, после знакомства с Энной Ивоновной, оно его огорчило. Энна Ивоновна больше подходила для роли его единственной. И как она тепло говорила о горе Горуне! Как будто она сама оттуда, как будто она - это она. "Горуня? Вот она, Горуня, - говорила Энна Ивоновна, водя пальцем по столбцам толстого историко-географического справочника. - Но здесь не указано, гора это или провал. Это может быть и гора, и провал, в зависимости от исторической обстановки". Калашников сказал, что если, допустим, люди кричат "ура!". Они берут высоту и кричат "ура!". Значит, это гора? Но Энна Ивоновна считала иначе. Потому что крик "ура!" может не только возвышать, но и принижать человека. Если в мирное время люди кричат "ура!" вместо того, чтобы кричать "караул!", это значит, что общество находится в полном провале. Нужно смотреть конкретно, что исторически происходило на этой горе, для того чтоб судить, что она собой представляет географически.
Замечательно говорила Энна Ивоновна, но Калашников ее уже почти не слушал. Он только на нее смотрел. И долго смотрел ей вслед, когда она ушла с каким-то парнем из средних веков, - то есть не из самих средних веков, а из отдела с таким названием.
И сейчас, слушая Веру Павловну, он все время думал об Энне Ивоновне. И не мог понять, почему Вера Павловна такая старая, она же раньше была молодая... Неужели она постарела от внешности? А почему не постарела Энна Ивоновна? Она, наоборот, от внешности только помолодела. А может. Вера Павловна постарела, ожидая Калашникова? Энна Ивоновна не постарела, ожидая его, а она постарела... Это предположение заставило его взглянуть на Веру Павловну другими глазами.
Вера Павловна рассказывала про свои детские годы, которые были даже не ее, потому что никакого детства у нее не было. Она так и сказала: "В детстве у меня не было детства".
Это уже было лишнее. Правду тоже нужно говорить к месту, иначе она хуже лжи. Это когда-то, в своем прежнем существовании, Калашников повторял все без разбора, теперь он знает, как повторять. Ему скажут: "Трам-та-та-там!" - а он в ответ: "Тири-тири..." Ему опять: "Трам-та-та-там!" - а он опять: "Тири-тири..." Интеллигентный человек.
В детстве у нее не было детства... Это же каждый догадается, что она из ничего взялась, из пустого звука. А может, она старилась не в ожидании Калашникова, а просто так, сама по себе? И опять перед ним возник образ Энны Ивоновны.
Вера Павловна между тем вспомнила о своем дяде, которого в каком-то провинциальном городе приняли за столичного ревизора. Надавали ему взяток... Он потом их сдал в милицию.
"Это случайно не тот дядя, который скупал мертвых душ?" - с намеком спросил Калашников.
Вера Павловна его не услышала. Она вдруг начала стремительно молодеть, но смотрела при этом не на Калашникова, что еще как-то можно было бы понять, а куда-то мимо Калашникова. И уже не только молодея, а светлея лицом и вся подавшись навстречу тому, что ее так сильно притягивало, Вера Павловна сказала, словно вздохнула: "Дарий Павлович!"
Калашников обернулся. Прямо на него, но глядя тоже мимо него и улыбаясь мимо него, к киоску шел Дарий Павлович Михайлюк.
9
Калашников брел по улице, по которой еще недавно шли победным шагом Ганнибал, Наполеон и Суворов, и на душе у него было скверно. Все-таки обидно, что старый Михайлюк... Это, наверно, потому, что она сама старая... Конечно, до Энны Ивоновны ей далеко, но ведь единственная же! Когда-то они были созвучны друг другу. И вот - она другому отдана и будет век ему верна, - вспомнились слова из ее биографии. "Ну и пусть верна, подумал он, - в таком возрасте это совсем не трудно".
И Энну Ивоновну от него увели, и Веру Павловну увели...
Он зашел в театр. Ему хотелось увидеть Зиночку.
В связи с переходом на новые формы обслуживания буфет был закрыт. Продолжал функционировать зрительный зал, но тоже подвергся серьезной реорганизации.
Зрительный зал был уставлен станками. Производственная тематика давала продукцию. Небольшая кучка зрителей теснилась на галерке, и их жидкие аплодисменты тонули в грохоте станков. Должность главного режиссера была в театре упразднена, вместо нее была введена должность главного инженера. Театр в дальнейшем предлагалось именовать заводом, а при заводе организовать самодеятельность, чтобы и дальше внедрять производственную тематику в жизнь.
Он вышел на улицу. Там уже собиралась очередь _от театра_. Несколько кварталов спустя он увидел очередь от библиотеки: там тоже был поблизости гастроном.
Калашников машинально побрел к дому Зиночки.
В освещенном окне Зиночку было хорошо видно. Она стояла перед зеркалом, примеряя на себя какую-то цепь, - словно кудрявая собачка перед домом хозяина. И вдруг этот хозяин вышел из глубины комнаты - в купальном халате и с полотенцем через плечо. Он был не из мира театра, он был скорее из мира тяжелой атлетики. Он стал играть с Зиночкой, как хозяин играет с собачкой в собственном доме, зная, что здесь его не укусят и не облают. Потом они оба склонились над столом, - может быть, над книгой? Лица у них были такие серьезные, словно они склонились над книгой и уже начали в ней что-то читать.