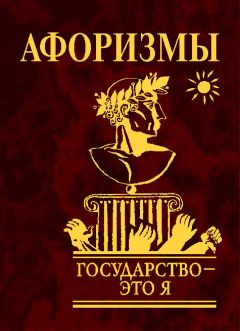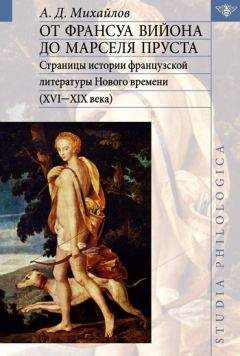Шломо Вульф - Право выбора
2.
Юрий вздрогнул от звонка в дверь. Впервые он кому-то нужен, кроме потустороннего Толи. Это были Галкины. В прихожую влетела закутанная до шарообразного вида Наташенька, с которой все разговаривали в общежитии через дверь, так как родителей никогда не было дома. Живая голубоглазая кукла с точно такой же закутанной куклой в руках. И почти хором - мама Наташе, а Наташа кукле: "Быстренько раздевайся, а то вспотеешь..." Все трое Галкиных оглядываются с восхищением. Квартира была обещана им, но они потребовали, чтобы её убрали хотя бы, если не отремонтировали. Почему они должны выгребать гусаковский мусор? Ректор только пожал плечами: не хотите - живите себе и дальше в общежитии... И - живут! А ведь приехали-то в Комсомольск именно за своей квартирой. И приехали в составе "хвостовского карательного десанта". Юрий знал, что Петя Хвостов и Вадим Галкин были друзьями по аспирантуре, но потом "друг перерос друга". На правах доктора-зава и покровителя друга-неудачника он как-то пришёл к Галкиным и с боксёрской напористостью предложил немедленно ехать с ним в Комсомольск. Тамошний институт с безграмотным практиком-ректором давно кость в горле у министерства. Ехать туда надо со своей гвардией, собранной по всей стране, иначе местные бездари не сдадутся, не освободят институтские квартиры и не пойдут из и.о. доцентов в мастера, где им как раз и место вместо кафедр и лабораторий. Квартиру гарантирую, не век же вам жить в общаге. Бери Марину и зверёныша и - за мной, в атаку, чтоб уже не лечь... Через год - кафедра. Свобода научного поиска. Романтика, тайга и Амур с бесподобной рыбалкой. А главное - полная гарантия, что там зверёныш будет твой, а не "профессиональной комсомолки". Юрия сблизило с Вадимом общность проблемы: и там был развод, но Вадим поступил смелее - тайком похитил любимую дочь - уехал с Наташенькой и любовницей Мариной. Хвостов, как член бюро горкома, тотчас надавил развод оформили в Комсомольске в пользу отца, а мать Наташи - секретарь горкома комсомола - осталась на Западе с носом. Единственное, что она смогла сделать, это выгнать Марину из комсомола за аморалку и написать об этом телегу в местный горком, что для журналистки было равносильно волчьему билету. Но Петя Хвостов и тут был настороже. Телегу "потеряли", Марину взяли в молодёжную газету. Здесь её оценили сразу. Она была словно создана самой природой для советской журналистики. Это было распахнутое в светлый мир социализма существо. Она писала только правду и только о хороших людях, а потому её материал был всегда только на первой полосе. И она, не имея врагов, пила жизнь, захлёбываясь от счастья, что не помешало ей бросить уже второго мужа и критически приглядываться к третьему, который тоже не тянул на идеально положительного героя репортажа о буднях великих строек. Спасала эту семью девичья крепкая дружба мачехи с падчерицей. Она любила "зверёныша" ещё больше, чем сам отец. Баскетболист под потолок, Вадим часто брал обеих на руки и вышагивал по лужам или по сугробам: два ноль восемь, метр пятьдесят семь и ноль восемьдесят с копейками. Такая семья просто не могла безоглядно поддержать атаку Хвостова. Институт оказался не больным, а молодым и несобранным, но способным организмом, который следовало не разрушать, а достраивать. Именно так и написала в репортаже Марина, анализируя ситуацию. Она писала, естественно только правду и только о хороших людях, но из её правды вылезал такой образ Хвостова, что первый секретарь горкома партии долго молчал, шевеля губами над статьёй, а потом, подняв на ректора глаза, тихо сказал: "Будешь избивать мои кадры, выгоню обратно, понял?" И Галкины нажили такого врага, каким может быть только бывший друг... "Ак-ти-ров-ка! - кричала и прыгала в своих нелепых толстых рейтузах под юбкой Марина. - Мороз сорок два и ветер около сорока метров в секунду. Лекции отменяются. На улицу не рекомендуется выходить." "А как же вы вышли, да ещё с ребёнком?" "Так мы очередь заняли за Пушкиным! Мы семьдесят четвёртые. Говорят, хватит. "Подписные издания" прямо напротив твоего дома. Вот мы и решили приходить греться. Мы тихонько. Дашь нам ключ, чтобы мы отмечались каждый час. Зато - представляешь - академическое издание в десяти томах, весь Пушкин. Это же на десять поколений Галкиных, верно, Вадик?" "Вернее не бывает. Галкины, как и Пушкин, бессмертны!" "А что, если по рюмочке, по маленькой..." - запел Юрий, доставая бутылку вина. "Налей. Налей, налей!" - подхватил Вадим. "Мы же прямо на живые места приехали, - горячился Вадим. - Они тут вовсе не бездарности. У них просто своего Совета нет, чтобы защититься. У них готовые диссертации поинтереснее петиной или моей. А он их взялся разгонять. Они, естественно, ощетинились. У хвостовцев почти у всех забронированные на Западе квартиры, а тут дальневосточники - у них иной крыши над головой нет и не будет нигде!" "Петя забыл, - добавила Марина, что и мы не с большой дороги молодцы. Чтобы нас на прохожих с кистенём посылать. Ой, как я здорово выразилась! Мальчики, да ведь это же заголовок! Учёный с большой дороги!!" "Кстати, местные подонки, в отличие от нас, тут же вошли в хвостовцы... пока наш Вадик нырнул под канаты! К болельщикам оппозиции. У нас негативный нейтралитет." "С коалицией и оппозицией всё понятно, но где же в этой раскладке я?" "Ты, Юрий Ефремович, у нас вообще тёмная лошадка. С одной стороны самого Хвостова чуть не прибил физически. Тот, говорят, с непривычки испугался нарвёшься, говорит, на психа-каратиста, а мне ещё детей и институт растить. С другой стороны, после представления крайкома с подачи Героя Союза Альтмана ты у нас - человек партии, а потому вне критики. Вот и квартиру тебе вроде бы дали. Но вообще-то тебя считают третьей силой. А Петя, кстати, не такой уж тиран, как кажется. Он добрый, он на "Семнадцати мгновениях" у телевизора взахлёб рыдал, когда младенца с мамой-пианисткой обижали. Он детей своих безумно любит..." "Портрет гауляйтера. Сентиментальный палач." Весь вечер Галкины то ныряли в безумство северного урагана, то снова появлялись, чтобы возобновлять безумство урагана страстей в институте. Что-то нечистое было в возбуждённости и серьёзности этой возни, как в любой застарелой склоке. С высоты пятого этажа Юрий смотрел утром на остановившихся у циклопического ночного сугроба друзей. Вадим казался отсюда взрослым с двумя детьми. На столе остался комок начатого письма, в квартире пахло женскими духами и плавал дым сигарет. Едва слышно прозвенел по хрупким от мороза стальным рельсам трамвай. Академическое издание Пушкина невезучим Галкиным не досталось...
3.
Юрий вышел в мессиво всепроникающей свирепой метели выбросить мусор. Едва удерживаясь на ногах от ураганного воющего ноябрьского ветра и сковывающего губы, нос и ресницы жгучего всепроникающего мороза, он продирался сквозь пыль и снег к мусорному баку, как вдруг... "Ицик!! - нечеловечески пронзительным голосом крикнул голый мужчина, пересекающий залитую ослепительным солнцем ярко-зелёную улицу незнакомого города. - Бо рэга!" Собственно человек этот был в широких шортах до колен, но шорты сидели так низко под вислым жирным пузом уродливого волосатого тела, что не скрывали, а скорее подчёркивали наглую наготу. Мужчина скользнул по Юрию сытым безразличным взглядом и заковылял к такому же голому красавцу-приятелю с почти женскими мощинистыми сисечками. Оба разразились визгливым речитативом. "Ноябрь в Израиле, - веско сказал профессор Альтерман, - лучшее время года. Уже не жарко и ещё нет дождей..." Весь мир занимала вонь... Застарелая тёплая помойная вонь. Не здешняя. Эта мусорка зимой вообще не пахла ничем. Тут было нечто незнакомое и невиданное. Под ногами тряслась засаленная чёрная ступенька. Впереди просматривалась красивая, как на лубочной картинке, игрушечная улица, по которой Юрий нёсся на подножке не виданной им никогда оглушительно ревущей огромной мусорной машины. За неё цеплялись четверо в тёмной униформе и оранжевых жилетах. Напарник торопливо соскочил и помчался поперёк улицы, лавируя между потоками нарядных машин, к зелёным мусорным бакам. "Юрка, заорал он оттуда голосом профессора Негоды, - хули спишь? Кадыма, дорогой! Зман еш кесеф, гевер!.." Они с профессором Альтерманом из Корабелки уже катили бак через улицу. Оба были грязные и вонючие, как и сам Юрий, но весёлые и счастливые. Юрий бросился к другому ящику, который с трудом разворачивал доцент Хайкин из Военмеха. Над ящиком висели на дереве апельсины - новые и спекшиеся, а рядом с плодами в сочной зелени сияли и источали аромат белые цветы. В Израиле в ноябре цвели сады. Мусорщики понеслись к следующей помойке...
5.
Серёжа уже крепко спал, вытянув руки перед лицом, словно защищаясь во сне от кого-то. Он снова не дождался матери с работы. Родительское собрание отражало настроение ленинградцев в конце ноября, когда осеннее светлое пространство сужается с каждым днём до едва заметного просвета на пару часов, да и то с низкими снеговыми тучами. Тридцать усталых мужчин и женщин, одетых в мокрые пальто и обувь, одержимых раздражением и беспричинной злобой, сгрудились по ту сторону невидимого барьера, отделяющего их во всём правые семьи от придир-педагогов. Тридцать судеб, тридцать взаимных претензий, несбывшихся надежд и тяжёлых подозрений. Сегодня в школе ЧП: отличника Игоря Слуцкого родители увозят в Израиль. Причина - антисемитизм в их образцово-показательной школе. На подшефной стройке трое подвыпивших одноклассников набили Слуцкому его жидовскую морду, как и сказали злорадно классной руководительнице - Алле Михайловне Хадас, назвав её при этом Аллой Моисеевной. Железная Гвоздя впервые потеряла дар речи. Нет, в своём кругу она бы, конечно, высказалась достаточно ясно и жёстко, но здесь она - представитель партии интернационалистов. И она гневно осуждает. А эта наглая евреечка - мамаша Слуцкая, с таким-то носом, смеет ещё воспитывать русских педагогов и родителей! Дескать, в них не меньше фашистского, чем в тех, кто установил блокаду. И это она заявляет, стоя одной ногой в своём Израиле!.. И Алла эта Моисеевна ей вроде бы даже сочувствует, а? Нет, не успел Иосиф Виссарионович... Рано умер отец советских народов. А теперь надо терпеть эту раковую опухоль любого советского коллектива... Родители во-время перевели разговор с неприличной темы антисемитизма на привычную - пьянства восьмиклассников. И тут же сцепились между собой. "Если ваш пьёт при своём сыне по поводу и без повода..." "А ваше-то какое дело? Сначала заведите себе хоть такого мужа, а потом..." "Ваш не пьёт только потому, что вы ему денег и на кино не даёте, он на деньги моего сына ходит..." "А учителя только о тряпках и думают." "И как же вам не совестно мама Иванова, - пучит подбородки Гвоздя. - Нет школы в Ленинграде скромнее нашей." "А Алла Михайловна в чём пришла на урок месяц назад?" "Она наказана..." "Наказана, а у детей её фотография чуть ли не с голой грудью. Вы, Алла Моисеевна, ещё не в Израиле, между прочим..." "Вот видите, - радуется мама Слуцкая. - Я же говорю, в вашей школе учатся только дети недобитых гестаповцев!" "Перестаньте, они тоже люди." "Это мы - люди, - кричит Слуцкая. - А вот вы - тоже люди..." "Я имел в виду учителей, а не евреев..." "А евреи, по-вашему, не люди?" "Я вообще этой темы, между прочим, не касался. Если хотите знать, у меня в лаборатории начальник Лев Израилевич, очень достойный человек, Лауреат госпремии, между прочим." "Товарищи, - надрывается Гвоздя. - Этот вопрос мы закрыли! Мы сейчас не о лицах еврейской национальности, а о пьянстве..." И всё это после шести уроков, объяснения с завучем об удалении из девятого "в" класса дочери горисполкомовца. Фотографировала учеников и учителей на японскую "инфра-красную плёнку", которая будто бы не фиксирует на человеке никакой одежды. А девочки прямо на уроке, при изучении сцены грозы Островского, принимают непристойные позы из принесённого сыном капитана дальнего плавания "Плейбоя" и страстно обсуждают, как переправить их фотографии на красной плёнке в Америку для этого издания... А мальчики будто бы уже послали соответсвующее изображение учительницы физкультуры, когда она делала на уроке приседания колени врозь, да ещё с её личной подписью... А потом в переполненной столовой холодный гарнир с вчерашней котлетой ("И такой дряни доверяют кормить детей! Лишь бы уволили Петровну. Она им была как школьная мама, первоклашкам ротики утирала..." "Ах, оставьте, кто её увольнял! Предложили в школе на Пестеля на пять рублей в месяц больше."). А потом беготня с авоськой по магазинам (учителя, как ни странно, тоже родители). И вот, наконец, долгожданная тишина дома. Только хлопья снега несутся горизонтально мимо чёрного окна, отчего комната словно бесшумно и стремительно летит куда-то в пространстве. Только дыхание сына с кровати справа от окна. И странное кощунственное ощущение счастья свободы от супружеских прав и обязанностей. Можно, наконец, придя домой не нервничать и не сдерживаться. Просто стоять и беседовать со снежинками, чёрными на фоне подсвеченного рекламой проспекта неба, белыми на фоне тёмных деревьев двора. Она меняет угол зрения и видит своё отражение в стекле окна. Такое отражение всегда немного старит. Алла отворачивается, пожимает закутанными в шаль узкими плечами и подходит к столу, где уже месяц лежит написанное сразу после визита Кеши письмо. То самое, что следует немедленно отправить после Юриного жеста доброй воли. Жеста не последовало. Впрочем, письмо ни при каких жестах не было бы отправлено. Отправить, чтобы потерять всё это, такую свободу и взамен получить опостылевшего его? Вы шутите? Она рвёт конверт с письмом на мелкие кусочки и подбрасывает их к потолку. Хотела бы я посмотреть, кто способен склеить его обратно! Да ещё чтобы было лучше, чем до разрыва. А тут пытаются склеить обрывки целой жизни... Что там Кеша предлагал? Бросить Ленинград, один из двух-трёх единственных приличных городов этой огромной нелепой страны, ради чего? Ради идиотской виноватой улыбки на фоне пустых гастрономов и универмагов Комсомольска? Папаша Слуцкий и то предложил ей путь лучше - не на Дальний Восток, а на Ближний. Переселиться на юг, а не в застывший от нечеловеческих морозов Комсомольск. В свободный мир. И - начать новую жизнь с чистого белого листа. И себе и сыну. Без всех этих соотечественников и их скрытой до поры до времени ненависти к жидовским мордам жены и сына доцента Хадаса. При упоминании собственной фамилии её передёргивает от презрения и ненависти к мужу. Подослал Кешку, а сам и не написал, по-до-нок... Алла решительно закуривает, щелчком отбрасывает спичку и смотрит на себя в зеркало. Сшитый в кредит элегантный чёрный костюм, решительно расставленные ноги в чёрных колготках, вызывающе светящаяся над белым воротничком свежая длинная шея, молодые злые чёрные глаза под рыжей чёлкой с закрашенной сединой. Знамение века - свободная мать-одиночка. У них пол-учительской таких решительных ленинградских элегантных дам, добровольно выбравших свободу. Пусть шлёт своё письмо - пойдёт в мусоропровод, без прочтения, ещё чего! Кто он? Ошибка молодости, не более. Ей тридцать три. Жизнь впереди. Новый досмотр, уже в ванной. Допрос с пристрастием - может ли понравиться такая женщина, скажем богатому и страстному молодому израильтянину, если она решится последовать за Слуцкими? Под глазами мешки? Это от собачьей жизни. Исправимо - массаж, маски, дело техники. Главное - девичья грудь, осиная талия, гладкая смуглая кожа, природная грация и стройные ноги. Пока я такая, начерта мне его письма! Тем более, что он, с-с-скотина, так и не написал... Она гасит свет и идёт к неестественно широкой постели с одной подушкой. И здесь за окном всё тот же бесшумный ленинградский галоп снежинок. А письмо от проклятого Юрки так и не пришло...