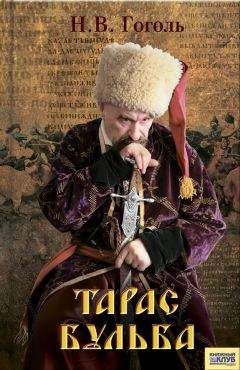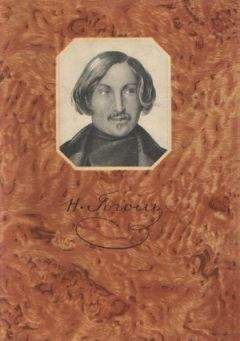Николай Гоголь - Повести
С тайным удовольствием прочитал художник это объявление; лицо его просияло. О нем заговорили печатно – это было для него новостию; несколько раз перечитывал он строки. Сравнение с Вандиком и Тицианом ему сильно польстило. Фраза «Виват, Андрей Петрович!» также очень понравилась; печатным образом называют его по имени и по отчеству – честь, доныне ему совершенно неизвестная. Он начал ходить скоро по комнате, ерошить себе волоса, то садился на кресла, то вскакивал с них и садился на диван, представляя поминутно, как он будет принимать посетителей и посетительниц, подходил к холсту и производил над ним лихую замашку кисти, пробуя сообщить грациозные движения руке. На другой день раздался колокольчик у дверей его; он побежал отворять. Вошла дама, предводимая лакеем в ливрейной шинели на меху, и вместе с дамой вошла молоденькая восемнадцатилетняя девочка, дочь ее.
– Вы мсьё Чартков? – сказала дама. Художник поклонился.
– Об вас столько пишут; ваши портреты, говорят, верх совершенства. – Сказавши это, дама наставила на глаз лорнет и побежала быстро осматривать стены, на которых ничего не было. – А где же ваши портреты?
– Вынесли, – сказал художник, несколько смешавшись, – я только что переехал еще на эту квартиру, так они еще в дороге… не доехали.
– Вы были в Италии? – сказала дама, наводя на него лорнет, не найдя ничего другого, на что бы можно было навесть его.
– Нет, я не был, но хотел быть… впрочем, теперь покамест я отложил… Вот кресла-с, вы устали?..
– Благодарю, я сидела долго в карете. А, вон наконец вижу вашу работу! – сказала дама, побежала к супротивной стене и наводя лорнет на стоявшие на полу его этюды, программы, перспективы и портреты. – C’est charmant! Lise, Lise, venez ici![2] Комната во вкусе Теньера, видишь: беспорядок, беспорядок, стол, на нем бюст, рука, палитра; вон пыль, – видишь, как пыль нарисована! C’est charmant! А вон на другом холсте женщина, моющая лицо, – quelle jolie figure![3] Ах, мужичок! Lise, Lise, мужичок в русской рубашке! смотри: мужичок! Так вы занимаетесь не одними только портретами?
– О, это вздор… Так, шалил… этюды…
– Скажите, какого вы мнения насчет нынешних портретистов? Не правда ли, теперь нет таких, как был Тициан? Нет той силы в колорите, нет той… как жаль, что я не могу вам выразить по-русски (дама была любительница живописи и оббегала с лорнетом все галереи в Италии). Однако мсьё Ноль… ах, как он пишет! Какая необыкновенная кисть! Я нахожу, что у него даже больше выраженья в лицах, нежели у Тициана. Вы не знаете мсьё Ноля?
– Кто этот Ноль? – спросил художник.
– Мсьё Ноль. Ах, какой талант! он написал с нее портрет, когда ей было только двенадцать лет. Нужно, чтобы вы непременно у нас были. Lise, ты ему покажи свой альбом. Вы знаете, что мы приехали с тем, чтобы сей же час начали с нее портрет.
– Как же, я готов сию минуту.
И в одно мгновенье придвинул он станок с готовым холстом, взял в руки палитру, вперил глаз в бледное личико дочери. Если бы он был знаток человеческой природы, он прочел бы на нем в одну минуту начало ребяческой страсти к балам, начало тоски и жалоб на длинноту времени до обеда и после обеда, желанья побегать в новом платье на гуляньях, тяжелые следы безучастного прилежания к разным искусствам, внушаемого матерью для возвышения души и чувств. Но художник видел в этом нежном личике одну только заманчивую для кисти почти фарфоровую прозрачность тела, увлекательную легкую томность, тонкую светлую шейку и аристократическую легкостъ стана. И уже заранее готовился торжествовать, показать легкость и блеск своей кисти, имевшей доселе дело только с жесткими чертами грубых моделей, с строгими антиками и копиями кое-каких классических мастеров. Он уже представлял себе в мыслях, как выйдет это легонькое личико.
– Знаете ли, – сказала дама с несколько даже трогательным выражением лица, – я бы хотела… на ней теперь платье; я бы, признаюсь, не хотела, чтобы она была в платье, к которому мы так привыкли; я бы хотела, чтоб она была одета просто и сидела бы в тени зелени, в виду каких-нибудь полей, чтобы стада вдали или роща… чтобы незаметно было, что она едет куда-нибудь на бал или модный вечер. Наши балы, признаюсь, так убивают душу, так умерщвляют остатки чувств… простоты, простоты чтобы было больше.
Увы! на лицах и матушки и дочери написано было, что они до того исплясались на балах, что обе сделались чуть не восковыми.
Чартков принялся за дело, усадил оригинал, сообразил несколько все это в голове; провел по воздуху кистью, мысленно устанавливая пункты; прищурил несколько глаз, подался назад, взглянул издали – и в один час начал и кончил подмалевку. Довольный ею, он принялся уже писать, работа его завлекла. Уже он позабыл все, позабыл даже, что находится в присутствии аристократических дам, начал даже выказывать иногда кое-какие художнические ухватки, произнося вслух разные звуки, временами подпевая, как случается с художником, погруженным всею душою в свое дело. Без всякой церемонии, одним движеньем кисти заставлял он оригинал поднимать голову, который наконец начал сильно вертеться и выражать совершенную усталость.
– Довольно, на первый раз довольно, – сказала дама.
– Еще немножко, – говорил позабывшийся художник.
– Нет, пора! Lise, три часа! – сказала она, вынимая маленькие часы, висевшие на золотой цепи у ее кушака, и вскрикнула: – Ах, как поздно!
– Минуточку только, – говорил Чартков простодушным и просящим голосом ребенка.
Но дама, кажется, совсем не была расположена угождать на этот раз его художественным потребностям и обещала вместо того просидеть в другой раз долее.
«Это, однако ж, досадно, – подумал про себя Чартков, – рука только что расходилась». И вспомнил он, что его никто не перебивал и не останавливал, когда он работал в своей мастерской на Васильевском острове; Никита, бывало, сидел не ворохнувшись на одном месте – пиши с него сколько угодно; он даже засыпал в заказанном ему положении. И, недовольный, положил он свою кисть и палитру на стул, и остановился смутно пред холстом. Комплимент, сказанный светской дамой, пробудил его из усыпления. Он бросился быстро к дверям провожать их; на лестнице получил приглашение бывать, прийти на следующей неделе обедать и с веселым видом возвратился к себе в комнату. Аристократическая дама совершенно очаровала его. До сих пор он глядел на подобные существа как на что-то недоступное, которые рождены только для того, чтобы пронестись в великолепной коляске с ливрейными лакеями и щегольским кучером и бросить равнодушный взгляд на бредущего пешком, в небогатом плащишке человека. И вдруг теперь одно из этих существ вошло к нему в комнату; он пишет портрет, приглашен на обед в аристократический дом. Довольство овладело им необыкновенное; он был упоен совершенно и наградил себя за это славным обедом, вечерним спектаклем и опять проехался в карете по городу без всякой нужды.
Во все эти дни обычная работа ему не шла вовсе на ум. Он только приготовлялся и ждал минуты, когда раздастся звонок. Наконец аристократическая дама приехала вместе с своею бледненькою дочерью. Он усадил их, придвинул холст уже с ловкостью и претензиями на светские замашки и стал писать. Солнечный день и ясное освещение много помогли ему. Он увидел в легоньком своем оригинале много такого, что, быв уловлено и передано на полотно, могло придать высокое достоинство портрету; увидел, что можно сделать кое-что особенное, если выполнить все в такой окончательности, в какой теперь представлялась ему натура. Сердце его начало даже слегка трепетать, когда он почувствовал, что выразит то, чего еще не заметили другие. Работа заняла его всего, весь погрузился он в кисть, позабыв опять об аристократическом происхождении оригинала. С занимавшимся дыханием видел, как выходили у него легкие черты и это почти прозрачное тело семнадцатилетней девушки. Он ловил всякий оттенок, легкую желтизну, едва заметную голубизну под глазами и уже готовился даже схватить небольшой прыщик, выскочивший на лбу, как вдруг услышал над собою голос матери. «Ах, зачем это? это не нужно, – говорила дама. – У вас тоже… вот, в некоторых местах… как будто бы несколько желто и вот здесь совершенно как темные пятнышки». Художник стал изъяснять, что эти-то пятнышки и желтизна именно разыгрываются хорошо, что они составляют приятные и легкие тоны лица. Но ему отвечали, что они не составят никаких тонов и совсем не разыгрываются; и что это ему только так кажется. «Но позвольте здесь в одном только месте тронуть немножко желтенькой краской», – сказал простодушно художник. Но этого-то ему и не позволили. Объявлено было, что Lise только сегодня немножко не расположена, а что желтизны в ней никакой не бывает и лицо поражает особенно свежестью краски. С грустью принялся он изглаживать то, что кисть его заставила выступить на полотно. Исчезло много почти незаметных черт, а вместе с ними исчезло отчасти и сходство. Он бесчувственно стал сообщать ему тот общий колорит, который дается наизусть и обращает даже лица, взятые с натуры, в какие-то холодно-идеальные, видимые на ученических программах. Но дама была довольна тем, что обидный колорит был изгнан вовсе. Она изъявила только удивленье, что работа идет так долго, и прибавила, что слышала, будто он в два сеанса оканчивает совершенно портрет. Художник ничего не нашелся на это отвечать. Дамы поднялись и собирались выйти. Он положил кисть, проводил их до дверей и после того долго оставался смутным на одном и том же месте перед своим портретом. Он глядел на него глупо, а в голове его между тем носились те легкие женственные черты, те оттенки и воздушные тоны, им подмеченные, которые уничтожила безжалостно его кисть. Будучи весь полон ими, он отставил портрет в сторону и отыскал у себя где-то заброшенную головку Психеи, которую когда-то давно и эскизно набросал на полотно. Это было личико, ловко написанное, но совершенно идеальное, холодное, состоявшее из одних общих черт, не принявшее живого тела. От нечего делать он теперь принялся проходить его, припоминая на нем все, что случилось ему подметить в лице аристократической посетительницы. Сломленные им черты, оттенки и тоны здесь ложились в том очищенном виде, в каком являются они тогда, когда художник, наглядевшись на природу, уже отдаляется от нее и производит ей равное создание. Психея стала оживать, и едва сквозившая мысль начала мало-помалу облекаться в видимое тело. Тип лица молоденькой светской девицы невольно сообщился Психее, и чрез то получила она своеобразное выражение, дающее право на название истинно оригинального произведения. Казалось, он воспользовался по частям и вместе всем, что представил ему оригинал, и привязался совершенно к своей работе. В продолжение нескольких дней он был занят только ею. И за этой самой работой застал его приезд знакомых дам. Он не успел снять со станка картину. Обе дамы издали радостный крик изумленья и всплеснули руками.