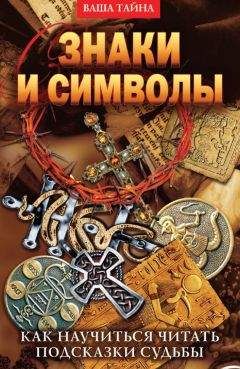Борис Садовской - Пшеница и плевелы
— Ну, для жида это, пожалуй, извинительно.
— Не забывайте, что и он потомок Авраама. Далее. К одному весьма известному сановнику в день Светлого Воскресения камердинер обратился со словами: «Христос Воскрес». Что же барин? Немедленно велел высечь слугу за дерзость, причем заметил: «Это тебе спьяну, должно быть, показалось». Наконец, я своими ушами слышал, как отец семейства на вопрос малолетнего сына: «Что значит нищие духом?» — ответил: «Дураки».
— Но ваши примеры убийственны, — сказал виконт.
— Подождите, еще не все. Генерал Михайловский-Данилевский спрашивал Норова, видел ли он в Иерусалиме мощи Христа? Приглашаю вас серьезно подумать об этом вопросе, немыслимом в устах мужика или богомолки. Его задает православный писатель, историк, государственный человек. Разумеется, в эпоху средних веков все эти остроумные кощунники подверглись бы отлучению; кое-кто попал бы и на костер. А теперь им раз в год на словах угрожает анафема, которой они не слушают, потому что в храмы не ходят. Восточная церковь особенно снисходительна. Наши священники с легким сердцем отпевают самоубийц, между тем от католического патера самоубийца, как ослушник церкви, погребения не получает.
Виконт сомнительно покачал головой.
— Церковная дисциплина, милый князь, увы, опоздала. Пожар революции растет.
— Но он не так страшен. Революционных идеалов может хватить еще лет на сто, не более. Человечеству перед концом захочется мирной жизни, невинных удовольствий: кто может их дать, кроме церкви?
— Еще вопрос, князь. Почему и Христос и апостолы о самоубийстве ничего не говорят?
— Дорогой виконт, вы забываете, что в словах Христа «претерпевший до конца спасен будет» уже таится осуждение самоубийству. Вспомните, кто из апостолов лишил себя жизни? Иуда. Стало быть, самоубийца-христианин ео ipso уподобляется предателю. И вообще, это такой нелепый и страшный грех, что Христу даже невозможно было говорить о нем.
— Значит, вне церкви нет спасенья?
— Нет и быть не может.
Девятнадцатилетний граф Алексей Толстой живет на большую ногу. Держит чистокровных орловских рысаков; заказывает для своих дворовых богатейшие гербовые ливреи, а для себя по пятнадцати пар перчаток на каждый день; одевается как парижанин. Выезжает на концерты и балы, на медвежьи облавы; забавляется в великосветском кругу катаньем с гор. Вчера Толстой был в Зимнем дворце на блинах у Наследника.
Туманный полдень. Пряча руки в обшлага темно-синего шлафрока, граф озабоченно прохаживается по своей великолепной гостиной. Портьера распахнулась: стуча когтями, вбежал стриженый пудель; за ним показался моложавый круглолицый генерал.
— С добрым утром. Отчего ты такой кислый?
— Рифмы не выходят.
— Попробуй без рифмы.
— В самом деле. Что ж, дядюшка, добились представленья?
— Нет, Чернышев не пускает. Да я перехитрю: недаром хохол. На пороге вырос камердинер.
— Господин Егоров.
— Проси.
Афродит привез от Брюлова едва успевший просохнуть портрет молодого графа.
Как пленителен этот женственный юноша-атлет с продолговатым породистым лицом, с мечтательно-вдохновенным взором под роскошно взбитыми кудрями!
На бархатном казакине белый отложной воротник. Через плечо ягдташ, в руках двустволка со взведенными курками; у ног выжидает, подняв морду, охотничий пес.
За блинами поэт и художник разговорились.
— И что всего обиднее, ваше сиятельство: мальчишка-то способный. Как привел я его к себе, хмельного да избитого, проспался он и прямо за карандаш. — «Что, мол, такое пишете, Николай Алексеич?» — «Стихи», говорит. Один стишок я захватил: прикажете прочесть?
— Прошу.
От жажды знанья плод не сладок.
О, не кичись гордыней дум
И тьмой бессмысленных загадок:
Пред Богом твой ничтожен ум.
С молитвой труд возьми по силе,
Науку к вере приведи
И безбоязненно к могиле
Молясь и веруя приди.
— Стихи недурны, и мысль глубокая. Передайте ему от меня сто рублей. Перовский сердито крякнул.
— Сто рублей для шулера? Не жирно ли?
— За хорошие стихи, дядюшка.
— И стишонки дрянь. Ни во что ваш сочинитель не верит: это шулерский прием. Он на стишках нажить собирается. А лет через двадцать по-другому передернет и опять наживет.
* * *Понедельник на масленой — встреча,
Заигрышем вторник прозывают,
Середу лакомкой величают,
Четверток слывет переломом,
Пятница — тещины вечерни,
Суббота — золовкины посиделки,
Воскресенье — проводы, прощеный день.
* * *Вереницы цветных домино, точно бабочкины крылья, шелестят вдоль театральных коридоров; разлетается по залам пестрый мундирный рой; черные фраки жужжат.
У колонны Мишель в алой лейб-гусарской венгерке, в белом ментике, сутулясь, опирается на саблю. В чертах его смесь дерзости и смущенья; в широко раскрытых черных глазах скрытая тревога. Как будто боится он быть изобличенным в чем-то, как будто ждет, что вот-вот подойдут и скажут: тебе здесь не место. И ответная дерзость, вскипая на дне зрачков, зовет на помощь ядовитую усмешку.
— Неужели я вам нравлюсь?
— Я вас люблю.
— Ах, зачем так шутить? Отвечайте прямо: вы узнаете меня?
— Ну разумеется. Я не забуду нашей первой встречи в мастерской Брюлова.
— В мастерской Брюлова? А как меня зовут?
— Вы Клара, натурщица. Что с вами?
— Ничего. Пусть Клара. Все равно.
— Вы были в Италии, Клара?
— Я недавно оттуда.
— Расскажите, как там.
— Ничего особенного. В Риме печей не топят. Небо голубое, стены темные, в них желтый мрамор. Везде фонтаны, церкви, галереи. Скучно.
— Не могу поверить.
— А вам разве весело?
— О нет.
Италия! Какая непостижимая сила, связуя тебя с Россией, жадно влечет сладострастную юную красавицу в объятия северного богатыря?
Сила эта называется тишиной.
Император Николай и папа Григорий — два мощных стража двух церковных монархий: восточной и западной. Двух, потому что третьей монархии не было, нет, не будет и быть не может.
И какой же русский художник не вдохновлялся Италией, кто из поэтов не мечтал о ней? Гоголю здесь отверзлись родники высокого искусства, тайну гармонии обрел здесь Глинка. По Италии пламенно тоскует Алексей Толстой;
к ней стремится пожилой Баратынский и юноша Майков. Сосчитать ли русских питомцев твоих, прекрасная Италия? Брюлов, Рамазанов, Иванов, Бруни, Кипренский, даже бездарный Шамшин, даже гнусный Шевченко — все бредят тобою, все влюблены в тебя!
И вот на бледных стогнах императорской столицы возникает лучезарное отражение папского Ватикана. Живописно-ленивая небрежность романтических альмавив, лохмотья лаццарони и религиозная процессия перекликаются с чопорной строгостью гвардейских шинелей, с вицмундирами титулярных советников и церемониальным маршем; утомленные, теплые вздохи влажного сирокко ответствуют издали жгучему свисту сухой пурги.
Как плотно облегает серебряная кираса светло-палевый, с литыми эполетами колет Государя; как туго обтянуты стройные ноги белоснежною лосиной! На рыцарских ботфортах зубчатые шпоры-звездочки; в правой руке перчатки и каска с бобровым гребнем, левая придерживает палаш.
Каждая замаскированная дама на публичном маскараде имеет право взять Императора под руку и с ним ходить.
* * *А сколько роковых перемен пронеслось над тобой, вековечный Рим! Вскормленник свирепой волчицы, бросал ты без счету языческим львам христианских своих противников, чтобы самому потом покорно склониться перед львом святого Марка. Несметные полчища варваров потоками адской лавы грозно шумели над тобой и, отшумев, исчезали, а ты все так же стоишь. Отвергнул ты танталовы плоды Вольтера, сизифов труд Канта; не терзал твоей печени Байронов ненасытный орел. К живому источнику ведет тебя бессмертный твой Данте: его благодатный гений презрел пустые и дырявые сосуды безбожных Данаид.
Будет день: упадет Третий Рим подобно Второму, ты же останешься вечно Первым Римом, Единственным и Последним. Ты камень: на тебе неодолимо пребывает святая Церковь; здесь соберутся во время оно верные овцы Христа; сюда созовет свое единое стадо единый Пастырь.
Да, к Риму ведут все дороги: воистину вечный город. Не давал он в обиду себя ни франку бесстыжему, ни австрияку лукавому, ни тебе, рыжий дьявол, коварный англичанин.
* * *Комната в подгородном трактире. За стаканом пунша Владимир и Афродит; в соседнем зале песня цыганского хора.
Как за реченькой слободушка стоит,
В той слободке молода вдова живет,
У нее ли дочь красавица растет…
Афродит внезапно обернулся и вскочил. Побрякивая шпорами и саблей, в расстегнутой венгерке вошел веселый, раскрасневшийся Мишель.