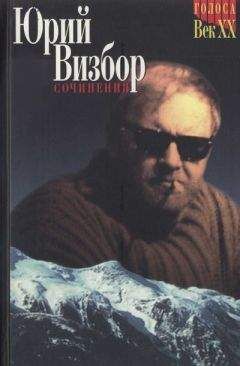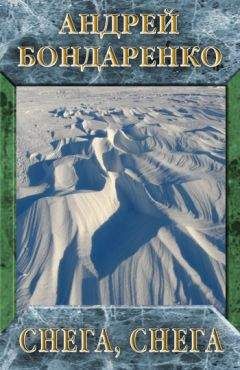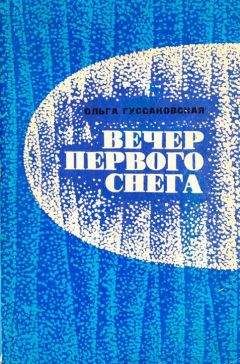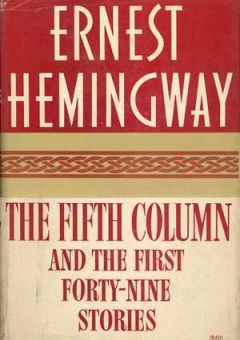Алексей Толстой - Том 3. Художественная проза. Статьи
Приписывая это коварство, быть может ошибочно, Замойскому, Шуйский послал ему письменный укор, что он поступил нечестно, и предложил ему, вместо того, померяться с ним на саблях, лицом к лицу. Одна эта черта освещает всего Шуйского со стороны его благородства и будущей несостоятельности как руководителя заговора. Воевода, имевший под своей ответственностью многие тысячи людей и согласившийся играть жизнью в личном деле, из одного чувства прямоты, — есть тот самый человек, который впоследствии, на очной ставке с Клешниным, предпочтёт погубить свою голову, чем ответить неправду на вопрос царя, сделанный ему именем его чести. И Фёдор, с верным чутьём высокой души, узнающей другую высокую душу, не ошибается в Шуйском, когда не требует от него ни клятвы, ни целования иконы, а говорит:
Скажи по чести мне. По чести только,
И слова твоего с меня довольно!
Вообще причина любви Фёдора к Шуйскому — это испытанная прямота и благородство последнего: они — два родственные характера. Имей Фёдор силу и ум, он был бы похож на Шуйского.
Как в роли Фёдора, так и в роли Шуйского главные основания изложены во вступительной сцене. Из первых слов Шуйского мы узнаем его ненависть к Годунову и упорную привязанность к старине; из возражения Василию Шуйскому его честность с самим собой; из ответа Головину — его доселе неколебимую верность Фёдору; а из заключительного монолога — его отвращение от кривых путей. Сверх того, в этой сцене рассеяно, в разговорах разных лиц, много рефлексов, объясняющих другие стороны Шуйского, так что при помощи этих данных исполнителю будет нетрудно воплотить его личность и сделать её для зрителя несомнительною.
В сцене примирения прежде всего бросается в глаза гордость Шуйского. Слова:
…Государь,
Мне в Думе делать нечего, —
должны быть сказаны даже с некоторою суровостью. Она продолжает являться и во всех возражениях его Годунову, и в первом ответе царице. Только после монолога Ирины, когда она, кланяясь ему, говорит:
…Моим большим поклоном
Прошу тебя, забудь свою вражду! —
ледяной панцирь, которым Шуйский обложил своё сердце, растаивает, и в голосе его слышится дрожание, когда он отвечает:
…Царица-матушка! Ты на меня
Повеяла как будто тихим летом!
Этот переход от суровости к умилению, это преклонение мужественного характера перед женскою благостью — лучше всего обрисовывает Шуйского, и драматический артист сделает хорошо, если обратит большое внимание на это место.
Со словами Шуйского:
Вот моя рука! —
которые он выговаривает с откровенною решимостью, всё враждебное исчезает из его сердца и с его лица. Он искренно помирился с Годуновым, искренно верит его обещаниям и с полным чистосердечием произносит свою клятву. К выборным, дерзающим сомневаться, что правитель сдержит своё слово, Иван Петрович обращается с гневным упрёком в то самое время, как Годунов шепчет Клешнину:
…Заметь их имена
И запиши.
Здесь особенно виден контраст между характерами Годунова и Шуйского. Оба исполнителя должны на репетициях усвоить себе: первый — благозвучную убедительность голоса и невозмутимое спокойствие приёмов; другой — сначала гордую суровость, потом стремительную доверчивость в своих новых отношениях к примирённому врагу.
В третьем акте, при вести о вероломстве Годунова, Шуйский сперва не может ей поверить, потом вскипает негодованием. Когда же братья его хлопотливо предлагают каждый свою меру, он молчит, сдвинув брови, погружённый сам в себя, и вдруг, как будто опомнившись и удивляясь, что они так долго ищут исхода, восклицает:
Вы словно все в бреду! —
и решается идти к царю, уверенный, что прямой путь самый лучший. Его слова:
…И можем ныне мы,
Хвала творцу, не погрешая сами,
Его низвергнуть чистыми руками! —
должны звучать уверенностью в успехе, а следующие затем:
Наружу ложь! И сгинет Годунов,
Лишь солнце там, в востоке, засияет! —
торжеством победы, как звуки бранной трубы.
«Младенец!» — замечает, пожимая плечами, Василий Шуйский, когда дядя его удалился. И в самом деле, князь Иван Петрович в этом случае такой же младенец, как и сам Фёдор, такой же, как и всякий чистый человек, не верящий, что наглая неправда может взять верх над очевидной правдой.
Опыт доказывает, что он слишком много рассчитывал на Фёдора. Эта слабая опора под ним подламывается, и когда он уходит с негодующими словами:
Прости, великий царь! —
зритель должен видеть и слышать, что в нём произошёл один из тех переворотов, которые изменяют всю жизнь человека.
Свои распоряжения насчёт восстания он делает стремительно и отдаёт свои приказания отрывисто, с лихорадочною решимостью. Ему нелегко отказаться от долголетней верности царю, от тех начал законности, во имя которых он жил доселе; но он думает, что того требует благо земли, а оскорблённая гордость ему поддакивает. Но если бы Фёдор ещё одумался и сменил Годунова, Шуйский отказался бы от восстания. Поэтому, когда Фёдор за ним посылает, он повинуется, предполагая, что Фёдор хочет дать ему удовлетворение.
Вместо того происходит сцена очной ставки, и Шуйский, из чувства чести, выдаёт себя головой. Здесь, быть может, небесполезно сделать возражение на ошибочное мнение, что чувство чести в XVI веке было исключительною принадлежностью Запада. К прискорбию, мы не можем скрыть от себя, что в московский период нашей истории, особенно в царение Ивана Грозного, чувство это, в смысле охранения собственного достоинства, значительно пострадало или уродливо исказилось и что если мы обязаны московскому периоду нашим внешним величием, то, купив его внутренним своим унижением, мы дорого за него заплатили. Но в смысле долга, признаваемого человеком над самим собой и обрекающего его, в случае нарушения, собственному презрению, чувство чести, слава богу, у нас уцелело. Древняя юридическая формула: «Да будет мне стыдно!» — была отменена и забыта, но дух её не вовсе исчез из народного сознания. Чему приписать иначе столько случаев именно в царение Грозного, где его жертвы предпочитали смерть студному делу? Чему приписать поступок князя Репнина, умершего, чтобы не плясать перед царём? Или поступок наших пушкарей под Венденом, лишивших себя жизни, чтобы не быть взятыми в плен? Или (если не ограничиваться одними мужскими примерами) поступок боярынь княгини Старицкой, жены князя Владимира Андреевича, избравших казнь и мучения, чтобы не принять царских милостей? Солгать же из желания спасти свою жизнь, без сомнения, считалось не менее постыдным, чем отдаться живым неприятелю.
Связь с Византией и татарское владычество не дали нам возвесть идею чести в систему, как то совершилось на Западе, но святость слова осталась для нас столь же обязательною, как она была для древних греков и римлян. Довольно потеряли мы нашего достоинства в тяжёлый московский период, довольно приняли унижений всякого рода, чтобы не было нужно отымать у наших лучших людей того времени ещё и возможности религии честного слова потому только, что это чувство есть также западное[3].
Как ни известна Шуйскому благость Фёдора, но после своего признанья он не ожидал того оборота, который Фёдор даст его делу. Последнее усилие Шуйского выдержать свой характер выражается в словах:
…Не вздумай, государь,
Меня простить. Я на тебя бы снова
Тогда пошёл.
Слова эти он выговоривает гордо и сурово, как бы для того, чтобы отнять у Фёдора всякую возможность его помиловать. Но с Фёдором сладить нелегко, когда он взял себе в голову спасти утопающего. Он, как неустрашимый пловец, бросается за ним в воду, хватает его за руки, хватает за волосы, хватает за что попало и против воли тащит на берег. Суровость Шуйского разбивается вдребезги об это беспредельное великодушие. Он побеждён им теперь, как прежде был побеждён благостью Ирины; слезы брызнули из его глаз, и со словами:
…Нет, он святой!
Бог не велит подняться на него, —
он упал бы на колени перед Фёдором, если б тот не вытолкал его из покоя, говоря:
Ступай, ступай! Разделай, что ты сделал!
После этой сцены мы видим Шуйского в последний раз, в кандалах, под стражею, ведомого в тюрьму его заклятым врагом, Турениным, назначенным ему в пристава. Он принял свой приговор как заслуженное наказание, и в его осанке, в его голосе должны чувствоваться раскаяние, участие к народу, достоинство и преданность судьбе. Совесть уже не позволяет ему идти против Фёдора, но он не может пристать к Годунову; ему остаются только — тюрьма или смерть. Его слова к народу суть его последние в трагедии; исполнитель произнесёт их как можно проще, но с большим чувством, так, чтобы они сделали впечатление на зрителя.