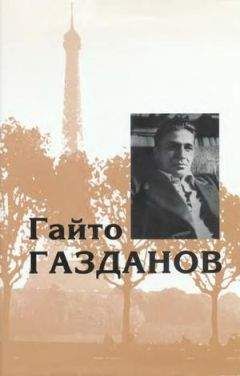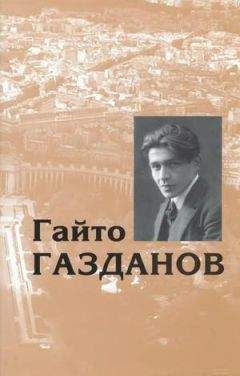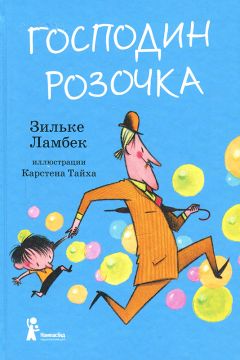Гайто Газданов - Том 1. Романы. Рассказы. Критика
– Римлянин! – закричал в отчаянии Алексей Борисович, – имейте же мужество быть римлянином до конца! Что может искупить ваше позорное равнодушие в такую минуту?
В оркестре надрывался тенор Васьки Крыльцова, Коля всхлипывал, золотые очки Алексея Борисовича прыгали от негодования.
И римляне были побеждены; им осталось, однако, право насмешки над победителями.
Васька Крыльцов стал ответственным работником музыкальной секции какого-то учреждения, Коля Красивый вместе с Алексеем Борисовичем рисует агитационные плакаты. Прогоревшие святые грустно выглядывают из сохранившихся кое-где икон; мерзнут ноги Сергия Радонежского в нашей гимназической церкви. Отец Иоанн умер от огорчения религиозного характера, цветут на райских лугах неправдоподобные цветы: римские легионы наших дней спят в высоких каменных казармах.
Дракон*
Я жил тогда на улице Julie, в Париже была зима, мутный сумрак колебался в воздухе, звенели капли воды на черепицах, – шум трамвая приближался и заставлял дребезжать стекла окна и поглощался постепенно туманом и расстоянием; он покидал мою комнату и я оставался один.
Такое же ощущение одиночества я испытывал, когда смотрел на уходящий поезд; прогремят колеса, поднимется и осядет пыль, а я все стою там же. Самым важным в подобные минуты мне казалось – быть в трамвае или поезде и ехать вместе с другими; но и в поезде – когда встречный экспресс проносился перед вагонными стеклами – меня не покидало это чувство; мне хотелось мчаться одновременно во всех направлениях. Постоянное беспокойство не оставляло меня.
В ту зиму, на улице Julie, у меня не было денег, и оттого, что я ничего не ел и лежал в кровати целыми днями – я отделялся без сожаления от вещей непосредственных, от мыслей о бифштексе, о ресторане, о возможности устроиться. Вечная преграда, мешавшая фантазии, преграда простых и сильных физических чувств, становилась легкой и прозрачной, и волшебство этой краткой свободы вновь возвращало мне ту способность фантастических странствований воображения, которой я обладал, когда был ребенком и которую утратил, когда стал взрослым. Я обретал опять возможность чистого восприятия, и пепельницу из розовой раковины я рассматривал с изумлением, точно видел ее впервые: я чувствовал, что после долгого периода умирания я снова возвращаюсь к жизни, и необыкновенная бессмысленность самых простых вещей – домов, окон, людей – их чудовищная неправдоподобность и невероятность становились очевидными.
Вся жизнь с первых до последних лет всегда казалась мне сосредоточенной в нескольких представлениях – не потому, чтобы я ничего не знал об ее многообразии; но каждое из этих представлений заключало в себе тысячи других, и, вспоминая одно, я тотчас вспоминал все остальные, связанные с ним, и я бродил среди них, навсегда лишенных движения в реальном пространстве, идею которого внушала мне математика, и навсегда удержанных моей памятью.
Я думал о том, как у людей возникают фантастические образы и как я создал себе представление о драконе; с ним связаны луга Белоруссии, река Свислочь, город Минск, люди с колтунами и зобами – неподвижные чудовища на порогах моей жизни. Я вспомнил, как ребенком я верил в Бога и боялся его: он тоже казался мне похожим на дракона, и приход Бога на землю я видел, как космический темный вихрь, поднимающий за собой воронки дыма, воды и песка.
В детстве, когда я не имел понятия о весе, времени и мере, – жизнь была для меня сменой душевных потрясений. Представьте себе маховик, который вращается очень быстро, – его страшная летящая тяжесть сгущает и заставляет дрожать воздух: вот с этим колеблющимся воздухом я бы сравнил мое психическое состояние, прозрачную и вздрагивающую жидкость моих чувств. Но и тогда у меня была возможность двух пониманий: одно все-таки оставалось мне немного чуждым и пугало меня – и другое меня пугало. Когда мне рассказывали сказки о драконе, мне являлось существо с гремящей чешуей; но по ночам дракон мне не снился. Настоящего дракона я увидел позже.
Поздней весной я ушел однажды за город, в поле; речка мутно струилась внизу, и трава на ее берегах уже покрылась пылью; чернели норки сусликов; вдалеке был виден лес, он медленно двигался в синем воздухе и все оставался на месте. Я пошел ловить тритонов и водяных жучков, скользивших легкими паутинными ногами по гладкой воде маленьких приречных озер. Поймав десяток тритонов, я пустил их в ведро с водой, потом раскопал землю и нашел несколько личинок, похожих одновременно на гусениц и кузнечиков: они были разных цветов – иные с сильно развитыми челюстями, другие с маленькими, третьи совсем без челюстей. Личинок я уложил и коробку принес домой и слышал, как они копошились и шуршали. Ложась спать, поставил коробку рядом с кроватью. А наутро меня ждало зрелище, которое поразило меня сильнее всего, что мне пришлось вообще видеть: в коробке был дракон.
Он лежал на дне, разноцветный и многоногий: голова с желтыми глазами возвышалась над туловищем, большие челюсти сжимались и разжимались. Я принес увеличительное стекло и направил на дракона пучок солнечных лучей: дракон медленно пополз по картону, тяжело таща свое тело. Я смотрел на него с ужасом и отвращением: оторванные головы и ноги лежали по углам коробки; после смертельного боя погибли все личинки, за исключением самой сильной – но и она была со всех сторон сжата мертвыми челюстями. Дракон шевелился целый день, но к вечеру умер; я положил его в стеклянный пузырек и закопал в саду. Следующей ночью мне все снился тихий скрежет личинок – и дракон, страшное и жестокое животное, бесшумное и отвратительное.
Я лежал на кровати на rue Julie и вдруг вспомнил, что Леонардо да Винчи рисовал чудовище, состоящее из соединения разных гадов, и что этот рисунок до нас не дошел. В слове дракон для меня соединилось все скверное и фантастически близкое, что я не переставал видеть перед собой.
Я рос, учился, читал, ловил зеленых ящериц с отрывающимися хвостами, вытаскивал при помощи нитки с восковым шариком на конце – свирепых тарантулов из их норок, устраивал огненный забор вокруг скорпионов – когда был на Кавказе, – следил за муравьями в сосновых лесах – красными, большими муравьями, тружениками и воинами, – и ужасное чувство знания постепенно проникало в меня.
Оно принимало самые различные формы, и тысячи предметов ежедневно напоминали мне о нем, и каждый раз при этом мне становилось скучно и страшно.
Мне случалось в разговоре с незнакомым человеком вдруг знать, что он скажет: но это были не те простые фразы, которые так легко предвидеть – это бывали чаще всего неожиданные и длинные периоды, иногда очень сложные…
Я нетерпеливо и напряженно ждал фразы, которую мой собеседник должен был произнести; и когда он ее произносил, я вздрагивал – и внутри меня что-то ахало и обрывалось – но через секунду легкий шум моей второй жизни начинал по-прежнему звучать. Это второе существование, несравненно более значительное – я ощущал его подчас с необыкновенной силой и ожесточением – всегда имеет звуковую окраску – и если этот шум прекратится, то я умру.
Но я не умирал: я только – на кровати, на улице Julie – чувствовал, как, точно во сне, я возникаю для жизни; и что темный мир вещей и ощущений быстро вырастает передо мной – и я снова иду в лесу, как и раньше, и узнаю забытые и знакомые тропинки, покрытые песком, синеватые цвета папоротников и многоэтажные пирамиды муравейников. Я набирал воздух и вздыхал, и силой вздоха перемещался в другие края: темный лес беззвучно рассыпался и исчезал и вот я в полях Белоруссии, у реки Свислочь, – опять забытые люди и мужики с колтунами, чудовища на порогах моего детства, чувство знания и дракон – круг, в который я возвращался столько раз.
Я проснулся однажды – мне было восемь лет, я жил на Украине; густой сад стоял перед окнами, и птица неизвестной породы прыгала по веткам вишни. Солнечный свет и жар звенели монотонным металлическим звуком, с речки кричали лягушки, и жабы раздували горла в прохладной темноте тени. Я проснулся не таким, каким заснул, и ясно увидел себя со стороны: тело, ноги, лицо, глаза. Особенно – глаза; и с тех пор, когда я подходил к зеркалу, я неизменно встречал всегда чужой, но что-то отдаленно напоминающий взгляд – безличный и жестокий. Я узнавал его у других людей – это было до ужаса знакомо; я терялся и умолкал и дракон опять появлялся передо мной.
Но когда я бывал сыт (один раз я видел диаграмму – сколько средний человек съедает за свою жизнь: несколько коров и быков, небольшое стадо баранов, множество кур, гусей и уток, зайцы, олени, свиньи, дикие кабаны и даже лось; вот только лошадь забыли почему-то, – очень любопытная диаграмма, между прочим), то эта вторая внутренняя жизнь смирялась и умолкала под грузом бифштексов и макарон. И тогда я смеялся над моими страхами и драконом; и, рассуждая на отвлеченные темы, вспоминал ученые книги и законы человеческого развития – и лишь минутами понимал, что становлюсь похожим на людей, которым все ясно: на скептиков и энтузиастов – веселых слепых и жизнерадостных инвалидов.