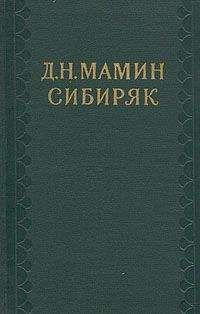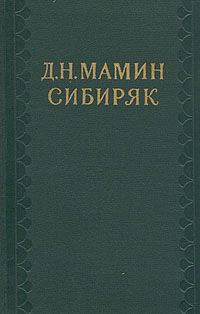Иван Шмелев - Том 6. История любовная
– Уже откушали. В угловом сидят за ведеркой, с дамой.
– Да бургундерии дашь, той, прежней выписки. С прежней своей?
– С незнакомой нонче-с, пофасонистей прежней будут. Холостые, что же-с!
– Попом бы тебя – всем бы отпускал!
– Чужая душа – потемки, Василий Николаич, а по деньгам и грех. Там разберут-с. А бургундерии как прикажете… к отбивной-с, или рябчики есть первейшие-с?..
«Вот он, российский воздух… бургундерия… – слушая, думал Кочин, и ему захотелось и солянки, и бургундерии, и подогретой копчушечки. – Неспешка, и простота, и… черт его знает что!»
Растрогал и извозчик – знакомым, давним:
– Ба-рин, а со мной-то давеча обещались… на сером-то…
– На Рязанский, да поживей!
– Духом помчу. Двугривенничек прибавьте…
* * *…– Вол-га?.. – чувствуя в слове ласку, спросил Кочин кого-то, стоявшего на площадке в сумерках, показывая в мутную, беловатую ровень дали.
– Она, матушка… – ответил ласковый говорок. – За-шумливает, никак. Ай вы не здешний? Не бывали в наших местах…
– Са-мый здешний, самарский! – отозвался дрогнувшим говорком и Кочин. – Как не знать!.. Сколько годов не видал!.. – выговорил он мягко и почувствовал ласку слова: сказал – «годов».
– Стало быть, земляки мы с вами. По вашему разговору слышу. Она, матушка, она… тянется-просыпается, на работку подымается!..
Пахнуло таким родным, что от радости дух занялся. И Кочин подумал вслух:
– А вот француз так никогда не скажет! Нет такой тихой шири…
– И никак и не может быть-с… – отозвался ласковый говорок. – Потому – Волга называется. А я… так вот гляжу на вас давеча и думаю: с лица – словно и наш, а по разговору-то… вы с барышней-то будто по-французски говорить изволили?..
Кочин признал старика в лисьей шубе, соседа по вагону, и, подхваченный ширью, крикнул:
– Са-мый что ни на есть русский! с Заволжья русский!..
– Так, так… очень хорошо-с. Все мы тут настоящие, древней кости, правильные… – ласково посмеялся собеседник. – Давно не бывали здесь, сказали-с? По службе на стороне жить изволили?
– На чужой стороне жил, в Бельгии да во Франции… с девятьсот второго, две-над-цать лет. Бельгийцев и французов в политехникуме учил… аэтого – не изжил!..
И крепко ударил в грудь.
– Никак и не может быть-с иначе. Россия… она тягу свою имеет, вроде как пламень! Воздуху у нас много.
Кочин подумал: многому надо было сломаться в жизни, чтобы почувствовать эту тягу – пламень.
– А дозвольте узнать фамилию-с… с каких местов?
– Кочин, Иван Александрович, с…
– Кочин?!.. Да не сынок ли вы будете Александра-то Парменыча? Конские у него заводы в…?
– Вы отца знаете?! – радостно вскрикнул Кочин.
– Да как же не знать-то… Господи!.. Да ведь Александра-то Парменыч дочку мою крестил, Аленушку. Господи, да я-то ведь вас как знаю… студентом, бывало, как отмахивали-то на Борчике!.. Антропа Столбина-то ужли не помните?!.. У папеньки покупал лошадок… старые друзья-приятели с ним!
– Так вы Антроп… Антроп Кондратьич?! – воскликнул Кочин, – с девочкой приезжали к нам!.. Беленькая такая… с отцом спорили всегда о статьях… знаменитый конятник!?.. Из-за кобылки у нас еще ссора вышла…
– Из-за его Ягодки знаменитой… Помните-с! Да Господи… как я вам рад-то, родной вы прямо! – воскликнул, чуть не в слезах, старик и полез целоваться с Кочиным. – Милостивый Господь!.. Стали большой ученый, слыхал, как же-с… Папашенька-то, слышали, прихворнул… с полгода я в ваших краях-то не был, а дела делаем. Да заезжайте ко мне, старику… на Московской, собственный дом, с балконом, а сад на Волгу… большущий у меня сад, в пять десятин… Столбина всякий мальчишка знает… Да как я рад-то, – прямо душа почуяла своего. Сижу, слушаю разговор, приглядываюсь… – ну, что-то знакомое! в лице у вас такое, как у папашеньки, когда помоложе был… Ах, Господи!.. Надолго к нам-то изволите?..
– Надолго? Навсегда, Антроп Кондратьевич… навсегда!
– Вот это хорошо-с! вот это славно-с!..
* * *В самый зачин весны, когда все поплыло, забурлило и зажурчало, дотащился Кочин до уездного городка. До усадьбы оставалось еще верст сорок.
Как и раньше, когда гимназистом приезжал на Пасху, решил он переночевать и, напившись в трактире чаю, вышел на торговую площадь.
Было все то же – сутолока и грязь, снеговая мура, навоз, с бурой водой колдобины, шлепающие ноги… – и сыпучий, немолчный гам мелочного торга. Но как все это переливалось в его душе! Что за крылья!? Откуда песни в душе, и хочется сладко плакать, и идти, и идти бездумно, по вешней воде в просторы…
Лихие петушиные голоса, кобыльи зовы, грызь жеребцов и ржанье горячей крови, воробьиная гомозня в пригревах… – все куда-то зовет, поталкивает и щекочет, и пробивает в душевной глыби. А воздух! Нигде неповторимый, – густой и топкий, и тонкий-тонкий, неуловимо!..
Главы собора, раздавшиеся синью, смеялись – звали золочеными звездами и крестами в сквозных цепях, легких, из золотого воздуха. Зевали лари на растопленной солнцем грязи, по-детски казали сказочные цвета розанов, пасхально-пышных, – желтых, лиловых, алых, – пушисто-шумных, когда заиграете ветром. Цепочки розочек-мелкоты шептали свое – купи! Образочки угодничков сияли цветной фольгою, смеялись на теплом солнце: «а вот и мы… все те же, старенькие, ласковые… здравствуй, родной… вернулся!..» Молодостью сияли колпачки пасочниц, из липки. Короба-брюхи пестрого токарья с лесов, вечной забавы детской, – свистульки, кубарики, бирюльки, – кричали яркими голосками – помнишь?!.. А вот и они, любимые, – семейки колокольцов валдайских, колокольцов дорожных, зудливо-звонко позванивающих по Руси, –
Ку-пи-де… ку-пи-де…
Ку-пи-денег… ку-пи-денег…
Ку-пи-денег-не-жалей…
Со-мной-ездить-веселей..
И он купил один, ему совсем ненужный.
Этот колоколец напомнил родное бездорожье, ночлеги, неурочные стоянки и уносящее дух – уххх-ты-ы…ать! – когда лошади вдруг подхватят и помчат-понесут куда-то, – под гору ли, в овраг ли, в омут ли, на луга… – кто там знает!..
Во всем было близкое и свое, приживившееся так к сердцу, что никакими силами оторвать не можно… а оторвал если, – только с кровью.
Бородатые лица мужиков, под мохнатыми шапками, были неизменно те же, тесанные на веки вечные. Ясны были бойкие бабьи глаза, светлые со светлого неба русского, как бывает светла вода на лесных прогалах. И вечно-весенни – девичьи, в тревожной весенней дымке, – пытливые, пугливо-ищущие судьбы. Вспомнились странные глаза «девушки из кафе», в Остенде, звавшие за собой… – не те! Вспомнились обманувшие глаза Ивонны, жены-не жены, оставленной далеко, в Лионе… – не те, не те! Вспомнились… ручьистые глаза Тани, серо-розовые от пряников, что покупал он в сладких рядах, – из Вязьмы, Торжка и Тулы: самые те глаза! Рассыпаны эти пряники и глаза – по всей России…
Глядели глаза – играли: на развешанное по шестам цветастое лоскутье, на глазастые платки-пятна, на кованые в жесть укладки-приданое, на подбитые полосатым тиком точеные люльки пестрые – качалки будущего наплода, качающие ветер…
Вороха рухляди, ряды белых кадушек, полных сверканьем нового творога, сметаны, сочного масла русского, в золотистой крупке: выломы сот янтарных, клейко текущих солнцем, с лесов приволжских… – все кричало ему из детства: здравствуй! Окоренки с россыпями яиц пасхальных – луковых, красных, синих, – светло кричали ему: Воскресе!
Безмятежно баюкающая, как колыбельная песенка, детская радость-счастье – плескалась и пела в нем. И теперь казалось ему неважным, как устраивать жизнь свою. Это казалось важным на чужбине, где прямые дороги, заборчики и канавки… А здесь, в бездорожной хляби, – было совсем неважно: вольешься – и вот, не страшно! Устала его душа от многолетнего начеку, а здесь – все разливно-мягко, все льется-льется в неведомые глазу формы, все ищет места, как этот плывучий снег, вливающийся неслышно в землю.
Он купил много ненужного: и цветов, и платков, и меду; и длинных-длинных пирогов-лодок волжских, с запеченными в них кусищами рыбы-сомовины, жирно-сладкой, – вкусных в бродяжном детстве; и радостной, еще мерзлой клюквы, укрытой под соломкой, – гремучего красного гороху; и каленых орехов жигулевских, и… – вот они самые! – розовых пряников на меду, что покупал, бывало, у ручьисто-глазастой Тани…
Он терся с родной толпой, вбирая дыханье овчины, крашенины, коровьего масла, дегтя… – запахи духоты и воли, земли и снега, грязи и солнца русского, в гуле толпы весенней. Трепетно-сладко слушал давно неслыханную певучую речь родную, крепко и кругло бьющую, сыплющую зубоскальством, смехом, по которой тосковал не чуя, которая нужна, как ласка, как родное сердце, что где-то тут и для него бьется…