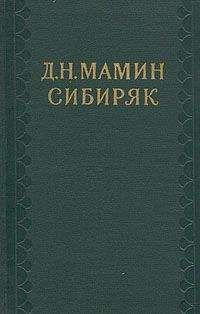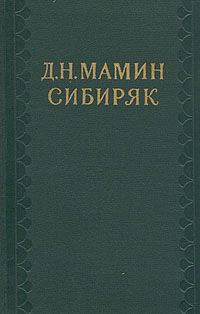Иван Шмелев - Том 6. История любовная
Вышли вместе. Саша Белокурова сказала, что подождет:
– Нет, нет, я не могу тебя оставить, такую… ты и меня разволновала. Ну, ступай, Господь с тобой, все будет хорошо.
Звонил директор санатория. Ирина переполошилась:
– Что с мужем?.. Ради Бога…
…Ну зачем же так… надумывать всяких ужасов! Позвонил раньше обычного? Просто так случилось… а, какие нервы! Все прекрасно. Определенно выяснилось, что «тело» инкапсюлировалось, и с этой стороны всякие опасения отпали. И вообще, нет показаний ожидать осложнений, если строго держаться предписаний. Сейчас, по телефону, он не может во всех подробностях… масса работы, все дергают, а он хотел бы лично переговорить обо всем детально, и главное – относительно дальнейшего лечения мосье Ка… Какая же трудная фамилия! Двадцать второго она будет… превосходно… но… –
– Завтра я как раз в Биаррице, у моих больных, милая мадам Ка… Простите, никак не могу выговорить! Без фамилии… прекрасно. И рассчитываю вас повидать и дать вам обстоятельный отчет… наш консультационный акт о положении вашего супруга. Ну вот, опять вы нервничаете… а, какая вы нехорошая!.. Уверяю же вас, ровно ничего серьезного. Успокойтесь, и дайте мне объяснить вам… О, какой же… пылкий темперамент! вы, как… мимоза, «ноли ме тангере»! Надо, дорогая, и вас лечить… Уверяю вас наш вывод исключительно благоприятный…
– Да?!.. – воскликнула Ирина, – как я рада, милый доктор… Боже мой, как я вам горячо признательна!.. Я не нахожу слов, чем я могла бы выразить мою безмерную признательность…
– Ну, вот… что вы, милочка!.. это же наш долг… Для меня высшая награда – когда я вижу, что мои пациенты воскресают. Мне будет… поверьте, это не слова… если вы совершенно успокоитесь. И вы успокоитесь, узнав мой вывод, документально подкрепленный. Значит, так. Завтра я в Биаррице, у моих пациентов, задержусь, останусь завтракать, и был бы о-чень счастлив… около так часу… меня бы это очень облегчило, если бы вы соблаговолили со мной позавтракать… «У Рыбака»! Знаете, уютный старинный ресторан, угол рю…? Там превосходно кормят… и я сумел бы вам изложить… И так, буду вас поджидать…
Ирина не знала, что ответить. Завтра?.. Завтра в Байоне, в четыре!.. Неприятно отозвалось в ней – «уютный ресторан», и странно развязный тон директора. Не думая, она сказала:
– Завтра, к сожалению, я не могу…
– Да?.. так-таки и не можете?.. – чувствовался в тоне холодок, – как жаль, однако… Но, не будем сожалеть, я покоряюсь и переношу на послезавтра… идет?
Тон директора опять переменился, стал развязным. Ирина чувствовала, что директор ищет встречи. Вспомнила его глаза с маслинкой, как он ее ошаривал, его рукопожатия, «с оттяжкой», его слащавость, пошловагость его манер… Но как же уклониться, не обидев? Подумала о «скидке», о затруднениях…
– Итак, условимся… – говорил уже приятельски директор, будто близкий, – послезавтра, около так часу, я буду поджидать вас, дорогая, «У Рыбака»… Разумеется, вы знаете этот «приют», где все бывают… старинный баскский оберж когда-то… всегда я в глубине там, мэтр д-отель вас проведет ко мне. Ваше вино какое?.. Я люблю заранее, чтобы аранжировать все ком-иль-фо… ну-с, дорогая?..
Тон становился все развязнее. Ирина возмущалась, но мысль о муже… –
– Право, господин директор, я затрудняюсь… мне, право, не до завтраков…
– А, бросьте все ваши опасения, ми-лая… мадам! Поверьте же специалисту, что…
«Будет „поджидать“… „проведет ко мне“… нет, что за наглость!..»
– Извините, но я никак не могу…
– Но почему же?.. почему же, дорогая?.. – настаивал директор.
«Дурак, и наглый», – думала Ирина. Эти – «дорогая», «милочка» – и как он смеет!.. – были ей оскорбительны, противны. Она сказала резко:
– Нет, я не могу… Ну, просто, потому, что… одна я не бываю в ресторанах!
– Но вы же не будете одна!
– Я буду в санаторие, и мы переговорим… так мне удобней.
– Вот как… так вы мне доверяете… – голос остыл, замялся. – Ну, что делать… до свиданья… – в тоне почувствовалось раздражение. – Надеюсь, я вас ничем не… затруднил, мадам?
– Нисколько. До свиданья, господин директор.
Ирина вышла из кабинки раздраженной, бледной. Тревожилась о муже. Саша Белокурова спросила:
– Ну, как, ничего страшного? Что ты такая… гневная?
– Слава Богу, все благополучно. Только этот нахал…
Встревоженная, возбужденная, Ирина не могла таиться.
– И молодец, отшлепала. Так им и надо, петушишкам. Сколько уж я-то перевидала, им только дайся, сударикам-мусьюнкам. Мне бы с ним за тебя позавтракать, я бы ему устроила опрокидончик! В Париже со мной что вышло, в «Трезвоне», ты послушай. Компания сидела. Ну, пригласили меня к столику, нормально. Вот один, ихний ди-путат, персонистый такой, красная ленточка, как полагается, с онером. Натурально, начал нацеливаться, вижу. Слышу, коленку гладит, будто ему кошка. И немолодой, слюнявый, распустил губищи. Ногу отставила, думаю – что дальше будет? Не унимается. Разогрелся с шанпанского. А я шанпанского не обожаю, как чумовая делаюсь с него, глушит. Ногу закинула, отворотилась… за руку меня! Голая рука, как шелк… приятно показалось… он меня, повыше локтя, обеими граблями, и пожимает, будто ему мячик. А, думаю себе, ты меня за руку, а я тебя… За ногу его, под коленку пальцем, как дерну… да и закинула, он и кувырк со стулом. Хохот пошел, никто не понял, чего он так, тармашкой. Поднялся, распетушился, налился кровью, брыжжет… в амбицию! Я тогда плохо рассуждала по-французски, только алор да сава-бьянь, выразиться не могу нормально. Ну, скандал, наши подбежали… я и сказала офицеру одному знакомому: переведите господину дипутату: «вы ди-путат, а я артистка! и тут приличный ресторан, а не какое заведение… и вы можете меня и за ногу, и за руку, а почему я не могу вас за ногу? У вас и либертэ, и игалитэ!» Как ему перевели, пошел – утерся. Как уважали после! Выйду петь – кричат: «бис браво, опрокино-он!» Надоело, перешла в «Избушку». А там меня наша «ворона бородатая» в «Крэмлэн» сманила. Повидала, как нас голубят. Пою им, а сама думаю – «а, шушера-людишки!» – куль-тура, уж известно. Господи, только и молюсь – «дай, Господи, нашу Россиюшку увидеть!» Вытянем родная, ничего…
Ирина поцеловала ее нежно, как близкую-родную, и пошептала: «бедные са-ночки…» Саша Белокурова вся просияла:
– Вот и приласкала дуру… прила…
Обняла крепко-крепко, и не могла – заплакала.
Придя к себе, Ирина навоображала ужасов: как теперь будут обходитьсся с Ви, как бы не стало ему хуже… Упрекала себя, что отказалась, – обиделся директор, ясно. Ну что ж такого, позавтракать! Здесь это так обыкновенно, любезность за любезность, можно держать в границах, пококетничать… Нет, это невозможно. Если бы только узнал Виктор… – нет, поступила так, как надо. А теперь, что же может быть? Ровно ничего. Взяла бумажку и подсчитала, сколько по счету санатория. Если еще дней десять, то… За месяц содержания – три тыс. плюс «лабораторных» – девятьсот, еще за новое просвечивание, анализы… – около пяти тысяч. Наличность: четыре тысячи на книжке, около двух у ней… то платье, если полторы тысячи… плято, в лом только, если наспех, франков триста… нормальный ее заработок полторы тысячи, сезон кончается… в Париж и не с чем. Ви необходимо отдохнуть… Так как же?.. Не стала думать. Ви лучше, ничего серьезного… а там – увидим.
Holdenstein
Март 1938
Рассказы
Родное
…быстро, смешно менялось, – словно во сне менялось. Двенадцать лет, – и столько чудесных превращений! Русский студент, политический, эмигрант-беглец, проклявший свое родное, – это он с болью помнил: как грозил кулаком в пространство, всему, всему, в тот бесприютный вечер, когда очутился за границей, за той границей, куда ехал теперь с восторгом, с пылавшим сердцем. Потом – бельгийский уже студент, чуть не принявший подданства, – удержали мольбы отца, – ученые работы, профессура, такая ранняя, с шумом в ученом мире… политическая амнистия, право «обнять Россию», – так и сказал тогда! – поездка во Францию, женитьба, миллионы тестя-шелковника, ожидавшиеся на днях к получке… бурный разрыв с Ивонной, опьянившею на полсотню дней, испарившееся из сердца с грязью, отказ от профессуры со скандалом, бешеная неделя с девушкой из кафе, в Остенде… спешный вызов к умирающему отцу – в Завольжье…
Словно во сне менялось. Скоро – свое, родное! Только бы увидать отца. Восторг погасал в тревоге, в щемящей боли. Ко-чин вспомнил присыл иконы-благословения, вспомнил слова отца – узенькую записочку, сунутую отцом под ризу: «Спас приведет тебя», – три слова, только. И вот приводит. Все разлетелось дымом – в какой-то месяц. И вот ведет…
Кочин вошел в вагон и ему стало легче.
Скоро разбегутся родные поля, с перелесками, церковками, телегами на проселках; пойдут твои станции, с звонкими колоколами, с бестолковою суетней, с лениво-небрежным выкриком – «третий давай!» – с очумелой бабой, тычущейся с мешком и клянущей какого-то Михайлу – «шутьи его возьми, чисто как провалился!..» – с плотниками – галдежью упрашивающими начальника погодить, не пускать машину, – «с билетами наш, который, Ондрей Высокое… чайку заварить побёг, за кипяточком…» – с мужиками в тулупах, чего-то ждущими с кнутьями, навалившись локтями и спинами на палисадник, с жандармом-памятником, с неспешною сутолокой и говорком.