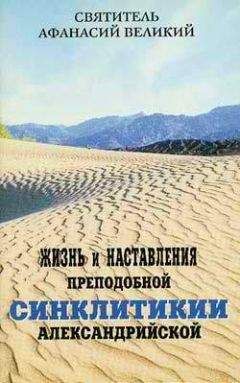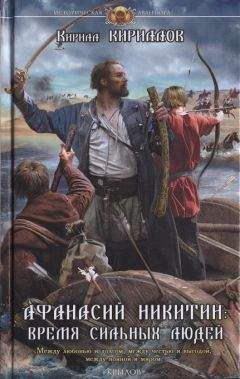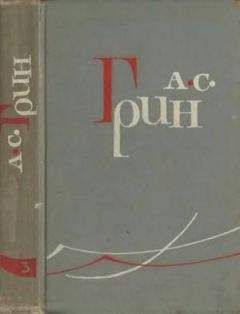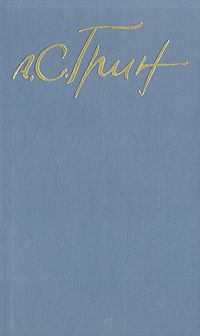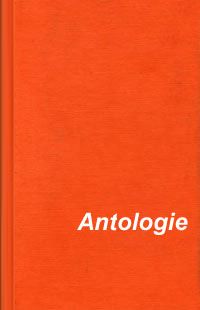Александр Грин - Том 4. Алые паруса. Романы
– отрывок из чернового наброска, который должен был служить началом феерии «Алые паруса». Впервые под произвольным названием «Размышления над „Алыми парусами“» был напечатан в журнале «Советская Украина» (Киев, 1960, № 8, с. 97 – 101). Публиковался в «правдинском» СС (М., 1965, т. 3, с. 427–431). Печатается по автографу (ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1 – 10).
Ментенон – Франсуаза д'Обинье, маркиза де Ментенон (1635–1719), вторая жена французского короля Людовика XIV; славилась красотой – ее портреты часто изображались на французских миниатюрах.
Пигмалион – в греческой мифологии легендарный скульптор, царь Кипра, влюбившийся в созданную им статую Галатеи. Афродита по просьбе скульптора оживила статую, и Галатея стала его женой. Употребляется в переносном значении: художник, одухотворяющий, оживляющий свое творение.
Н. Н. Грин в комментарии к рукописи, из которой взят публикуемый здесь фрагмент, указывала: «Предполагаю, что этот отрывок написан в период 17–18 гг., так как „Алые паруса“ в нем называются „Красными“, чего уже не было в конце 20-го года, как не было и персонажа – Мас-Туэля. „Алые паруса“ А. С. носил в себе пять лет. Закончены они в 1921 г., значит, задуманы, вернее, – первые мысли появились в 16–17 гг…» (ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 1, л. 1).
Фрагмент является, быть может, самым развернутым объяснением А. С. Грина специфики своего творчества. Представляет интерес и часть рукописи, непосредственно идущая за публикуемым в томе отрывком. В этой части дастся описание, как здесь сказано, «физиологической природы» Мас-Туэля. С одной стороны – это его способность летать, своеобразно проявившаяся еще в детстве («он, положительно, мелькал и чертил воздух, как конькобежец…»), а с другой – тяготение к творчески-поэтическому видению окружающего: герой устремил глаза в небо и увидел там как бы «подлинный морской залив», по которому «плыл белый фрегат – маленькое белое далекое облако…». То есть «все было неотличимо, верно действительности, с той лишь разницей общего выражения, что небесный пролив дышал мечтательной таинственностью, так много говорящей душе, когда она живет отдельно, возвышаясь над телом и забывая о нем» (ЦГАЛИ, ф. 127, оп. I, ед. хр. 1, л. 12, 13). Весьма показательно здесь и то, что «феноменальность» героя осознается как взаимодействие обеих сторон его «физиологической природы»: «чисто зрительное желание» Мас-Туэля приблизиться к «белому фрегату», воссозданному его фантазией из «маленького далекого облака», сопровождалось неожиданным результатом – «он поднялся в воздух».
И другие черновики феерии[41] говорят о том, что повесть была для Грина книгой, где он пытался напрямую говорить о проблемах психологии творческого процесса. Второй вариант (тоже существовавший под заглавием «Красные паруса») заключал в себе следующий план: «Книга 1-я. Описание внутренней жизни героя. Окно с игрушками. Редакция. Ощущение себя одиноким в мире действительности и стремление соединиться с нею единственно доступным путем – творчества, – толчок к нему. Промежуточное состояние: мысли о писательстве, книге, жизни в книгах, судьбе книг и силе влияния слова… Попытки додумать, что написать… Отрывки рукописей. Временное бессилие. Гнет слова. 1 – я глава повести: как она возникла и все о самом замысле в подробностях, рисующих полубессознательную психологическую технику. Внешние условия благополучной работы. Раздумье. Воспоминание об игрушке в окне – импульс. Книга 2-я. Как текла жизнь. Отношения в образах. Внешнее существование (сравнение с берегами речки). Умение и наслаждение смотреть. Глаз бессознательно отбрасывает лишнее, делая из видимого ряд совершенных картин. В одну из прогулок зрительные ассоциации увлекают к разгадке положения, бывшего неясным. Совмещение тончайших переживаний Я…» (ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 2, л. 8). Знаменательно, что в этом варианте феерии над заглавием «Красные паруса» есть своего рода эпиграф, который может быть отнесен и ко всему творчеству А. С. Грина: «Область, которую затронули мы, – бесконечна».
Дольше всего писатель не мог найти образ главного героя (Грэя) – и быть может, потому, что слишком сильными были тяготения к осмыслению сугубо профессиональных (внутренне-писательских) проблем. Судя по тексту черновиков, А. С. Грин трудно настраивался, отвергая многие варианты начал, создавая следующий часто совершенно в другом плане. Характерно, что эти зачины несли в себе зерна будущих произведений. Например, Мас-Туэль – явное предвосхищение Друда, вобравшего в себя многие сокровенные мысли писателя о тайнах творческого воображения, романтической фантазии.
Мотылек медной иглы*
Публикуется впервые по автографу 1926 г., хранящемуся в ЦГАЛИ – ф. 127, оп. 1, ед. хр. 25. Текст имел другие заголовки, зачеркнутые самим писателем: «Негатив, отпечатанный в молоке», «В дымных клубах», «Огненное кольцо». Часть текста – две подглавки – была опубликована под названием «Странный вечер» в журнале «Огонек» (1927, № 1, с. 6–7) в качестве первой главы коллективного романа «Большие пожары». Роман публиковался в 1927 г., начиная с № 1, в 25-ти номерах журнала. Его главный редактор М. Кольцов заказал А. С. Грину телеграммой в Феодосию «начальную главу» размером в четверть листа (ф. 127, оп. 1, ед. хр. 131, л. 3). По свидетельству Нины Николаевны, писатель согласился, оговорив, как всегда, что глава эта будет «в его стиле» – иначе он не соглашался. Однако глава, появившаяся в печати, пишет Н. Н. Грин, была, по мнению Грина, «искажена до неузнаваемости» (там же, л. 16). Писатель послал возмущенное письмо. Оно не сохранилось, но в архивном фонде А. С. Грина имеются два адресованных ему ответа – М. Кольцова и коллективное. Обращаясь от редакции журнала, М. Кольцов писал: «Уважаемый Александр Степанович! Все изменения в Вашей главе коллективного романа официально сделаны мною. Несу за это полную ответственность… Однако считаю необходимым указать причины, вызвавшие эти изменения. Настоящая литературная работа, организованная „Огоньком“, является из ряда вон выходящей. Создание коллективно написанного сюжетного романа при таком огромном числе авторов требует величайшей сговоренности… Первая глава романа в этом отношении особенно важна… Следовало ожидать, что ее придется подвергнуть наибольшим, может быть даже коренным, переделкам. Оказалось обратное… В своей телеграмме Вам я подчеркнул, что действие желательно развернуть в советской обстановке (выделено автором. – М. К.) и только к фиксации этого момента свелись сделанные поправки… Верю и надеюсь, Александр Степанович, что данные Вам объяснения удовлетворят Вас настолько, чтобы Вы не стали поднимать дальнейшей войны… Нужно ли подчеркивать бесспорность того, что Ваше богатейшее своеобразное художественно-литературное достояние ни в какой мере не пострадало от тех вынужденных микроскопических поправок, какие сделаны в написанной Вами главе. С уважением Мих. Кольцов» (ЦГАЛИ, ф. 127, оп. 1, ед. хр. 131, л. 5).
Другой ответ (от 10.01.27) последовал от самих писателей: «Уважаемый Александр Степанович! Мы, участники коллективного романа, присоединяемся к письму к Вам Михаила Ефимовича Кольцова, подтверждая, что в силу взаимного согласия разрешили производить в написанных нами главах необходимые для обшей стройности веши поправки и изменения и просим Вас в целях коллективной солидарности считать настоящим письмом вопрос исчерпанным» (там же, л. 4). Обращение подписали: Е. Зозуля, Л. Никулин, С. Буданцев, Ю. Либединский, А. Свирский и др.
В заключительной главе коллективного романа «Большие пожары», написанной М. Е. Кольцовым (гл. XXV и последняя, «Прибыли и убытки»), эта тема вновь была затронута в шутливой форме, как бы от лица недовольных читателей: «…Целый ряд жалобщиков обращал внимание на историю возникновения первого крупного пожара – в губернском суде, определенно указывая на его вдохновителя. Запрошенный в связи с этим проживающий в Крыму член профсоюза печатников Александр Степанович Грин письменно показал, что хотя им действительно был учинен в первой главе коллективного романа пожар в суде, но не его, Грина, вина в том, что этот пожар географически состоялся в советском городе Златогорске, а не в некотором безымянном городе за границей, как это было предложено в рукописи Грина. Сверка документов действительно подтвердила, что А. С. Грином действие первой главы было указано не в СССР, и даже первые герои романа – делопроизводитель Варвий Мигунов и репортер Берлога – первоначально, по Грину, именовались „архивариус Варвий Гизель“ и „репортер Вакельберг“…» (Огонек, 1927, № 25, с. 5).
По сути, вся глава М. Кольцова была ответом (проникнутым иронией) на разного рода «претензии» к содержанию глав коллективного романа якобы от лица «читателей» (разных златогорских «рабкоров»). Например, И. Бабеля обвиняли в «контрабандной, через роман, доставке в Златогорск нетрудового и контрреволюционного элемента». Негодовали и на Н. Ляшко, возмущаясь его легкомысленным поведением: «А еще свой, пролетарский писатель! Чуть завод не спалил, и рабочий поселок в придачу. Хорошо еще, что вовремя образумился, потушил…» и т. д. и т. п.