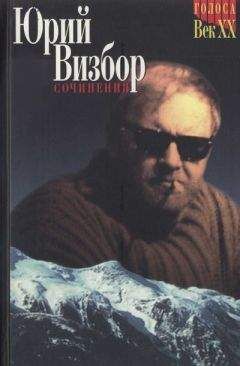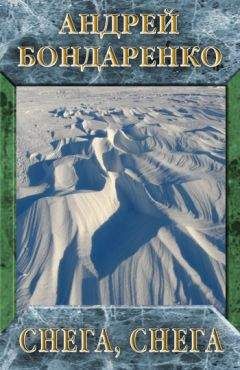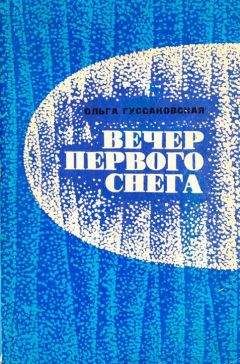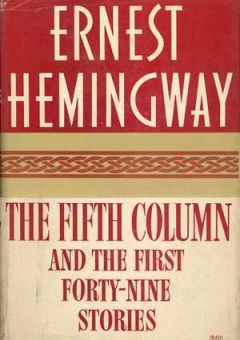Алексей Толстой - Том 3. Художественная проза. Статьи
Вообще, благодаря движению, введенному режиссером, в более скорому темпу веймарской труппы, сцена Боярской думы сошла с рук живо и вовсе не скучно. Когда она кончилась, единодушные рукоплескания наградили актеров.
Перемена декораций совершилась очень быстро. Я не видал Лефельда с последней репетиции и увидел его в первый раз в костюме. Он сидел на своем кресле с опущенным взором, с опущенною рукой, державшею четки, у стола, на котором лежали бармы и шапка Мономаха. (Все совершенно согласно с текстом трагедии.) Лицо его вовсе не было гримировано, да и не оказывалось в том надобности. Чтобы сделать из него Иоанна Грозного, до га-точно было редкой русой бороды и редких волос. Это, в самом деле, был Иоанн Грозный — и никто другой! Он говорил сдержанно, умеренно, глухим голосом, до самого письма Курбского, которое, в роли Нагого, отлично прочел молодой, красивый и даровитый серб Савич, единственный из актеров, умевший произносить имя Мстиславского. Когда кончилось чтение, Лефельд вскочил, вырвал письмо у Нагого и громким голосом потряс весь театр. Это, но моему мнению, была ошибка. Он слишком скоро превратился в богатыря. Но зато какой богатырь!
Я не видал Мочалова, но Лефельда могу сравнить только с Каратыгиным и не знаю, кому дать преимущество. Когда надели на него полное облачение, царственная фигура его явилась во всем его величии. Слова: «Теперь идем в собор перед всевышним преклонить колена!» — он произнес с необыкновенным достоинством, и в театре послышался взрыв уже прежде начинавшихся, но доселе сдержанных рукоплесканий, которые продолжались и после опущения занавеси. Ко мне вбежал режиссер, уверяя, что это меня вызывают, но я не имел причины ему поверить и велел просить Лефельда, чтоб он вышел на сцену. Лефельд вышел неохотно, и когда я в антракте отыскал его в уборной, он казался в отчаянии, чуть не сорвал с себя парика, метался во все стороны и повторял: «Я играю отвратительно!. Я играю отвратительно!»
— Что с вами? — спросил я, — вы играли прекрасно!
— Нет, нет, я простудился, у меня катар, у меня нет голоса!
— Помилуйте, у вас такой голос, какой дай бог всякому!
— Aber ich kann nicht mit der Stimme malen! (Я не могу живописать своим голосом!) — отвечал он и, бросившись в кресла, закрыл лицо руками. Мне показалось, что он плакал. Меня позвали в мою ложу, куда пришел великий герцог поздравить меня с успехом. Я рассказал ему о состоянии Лефельда, и он, с свойственною ему добротой, пошел сам на сцену ободрить унывающего артиста. Это удалось ему не вполне; Лефельд был неутешен.
После второго акта возобновились рукоплескания, режиссер опять вбежал ко мне, уверяя, что публика меня вызывает, но я, не слыша слова «автора!», опять выслал на сцену Лефельда и Ламе (Годунов), сказавшего свой монолог замечательно хорошо.
В третьем акте я, к сожалению, нашел, что Лефельд на репетициях играл лучше. Он был теперь слишком энергичен, тратил слишком много силы, но это заметил только я, а не публика. Очень приятно поразила меня своею картинностью m-lle Charles в костюме царицы. Она была великолепна: костюм богат и верен, наружность свежей и красивой ярославской девушки; игра очень хороша.
В Гарабурду Лефельд не пустил топором, но только замахнулся и откинул топор в сторону. Это было благоразумно: в его встревоженном состоянии он и деревянным топором раскроил бы Гарабурде голову.
Опять начались рукоплескания, опять вошел режиссер, а с ним и сам гофинтендант, уверяя меня, что я не хочу показаться публике.
— Но они не зовут автора!
— У нас никогда автора не зовут, но если в новой пиесе хлопают продолжительно, это значит, что хотят видеть автора.
Я еще колебался, как вошел в ложу один знакомый и сказал мне, что публика на меня негодует.
— Wir klatschen uns die Hànde wund, und er will nicht er-scheinen! (У нас от хлопанья болят руки, а он не показывается!)
Сомнения не оставалось, я должен был показаться. Меня вызвали два раза.
В четвертом акте случился сюрприз.
Пред поднятием занавеси я пошел на сцену и осмотрел Кикина. Он был одет как следует, только усы закрутил себе ужасно молодецки, что придавало ему вид италиянского браво, тем более, что он был огромного роста, выше всех головой. «Так нехорошо, — сказал я, — позвольте вам опустить усы!» — и, опустив ему усы, я возвратился в ложу. Народная сцена пошла отлично, но вот явился Кикин, и, к ужасу моему, я увидел, что он успел всунуть свои длинные ноги до половины икор в какие-то соломенные корзины, которые, должно быть, приберег для большего эффекта до последней минуты. Корзины эти, как я узнал после, особенно понравились публике. Она увидела в них этнографическую точность, couleur locale[15]; но я на другой же день написал к гофинтенданту, прося его запереть их в кладовую на ключ вместе с тюрбанами. Кикин был неимоверно плох, и когда пришлось ему убегать от толпы, ноги его оказались так длинны, что они с своими корзинами могли сделать только два шага чрез всю сцену. Зато Битяговский был прекрасен, и вообще вся сцена сыграна мастерски.
Во второй половине этого действия Лефельд опять выказал слишком много энергии. Он раза два без нужды бросался на пол и тем ослабил впечатление того места, где он становится пред боярами на колени. Но стал он на колени отлично, а пред этим, когда вскочил с кресла со словами:
Что там скребет в подполье? —
он в лице и голосе выразил такой ужас, что у меня, от художественного чувства, волосы зашевелились на голове, и многие из зрителей привстали с своих мест. Это, кажется, была его лучшая минута.
Но вот настала сцена со схимником. Изнеможенный Иоанн говорил вяло, схимник отвечал ему вяло. Завязалось между ними нечто вроде дуэта на одни и те же ноты, как будто они бились об заклад, кто кому прежде надоест. Это. было так нестерпимо, что мною овладела зевота и почувствовалась тоска в ногах. Кто тут был виноват? Я или они? Кажется, они. Иоанн и схимник не могут и не должны говорить в одном тоне, да еще в певучем. Тут, более чем где-либо, необходим контраст. По мне, этой сцене следовало провалиться, но она понравилась публике. Окончание акта:
Боже всемогущий!
Ты своего помазанника видишь,
и пр. —
было сказано прекрасно и покрыто рукоплесканиями.
В сцене с волхвами актер L'Hamé даже удивил публику. Он считался доселе приличным jeune premier[16], но в этой сцене выказал себя настоящим трагиком и вырос в общем мнении. Он сказал мне потом, что очень полюбил свою роль и по мере игры все более в нее вживался.
Окончание пятого акта: игра в шахматы, появление Годунова, его взгляд на Иоанна, гнев и смерть Иоанна, а в особенности его трагическое движение при появлении скоморохов — произвели глубокое впечатление на публику. Мне сказали, что зрители, бывшие на задних местах, все встали, когда вышел Годунов, и не садились до самого конца.
Вообще всю вторую половину пятого акта в театре царствовало глубокое молчание, и только по опущении занавеси начались громкие и продолжительные рукоплескания, и я был вызван два раза сряду.
Я пошел на сцену и благодарил всех актеров. Успех трагедии был несомнителен. Он превзошел их собственные ожидания. Все были довольны, все меня поздравляли; один Лефельд ходил, повеся голову.
— Не судите обо мне, — говорил он, — ради бога, не судите обо мне, я играл прескверно, но в следующий раз вы меня не узнаете! Изо всего моего репертуара роль Иоанна моя любимейшая. Она как будто скроена для меня (sie ist fur mich geschnitten), но моя простуда, мой катар совершенно меня расстроили.
Я не счел нужным сообщать ему теперь мои замечания о сделанных им ошибках, а напротив, высказал ему мое чистосердечное восхищение общим характером его игры. По моему мнению, Лефельд актер, обладающий средствами необыкновенными, но из двух условий великого артиста: способности вживаться в роль и способности управлять собою, он усвоил себе только первую. Он так вживается в роль, что перестает сомневаться в своей тождественности с представляемым лицом; но его необузданность есть враг его таланта.
Как бы то ни было, немецкая публика приняла русскую трагедию с давно не виданною благоволительностию. «Wir miïssten weit zuruckgreifen, — говорили мне актеры, — ura uns eines solchen Erfolgs zu erinnern»[17]. Я спросил их, не из уважения ли к одобрению великого герцога это случилось? Но мне отвечали, что веймарская публика очень самостоятельна и даже любит противоречить.
Второго представления я не видал. Оно было назначено через неделю, преимущественно для иногородних, то есть для жителей Иены, Эрфурта и Мейнингена, в каком случае обыкновенно учреждается экстренный вечерний поезд.
Теперь вот мой общий вывод: успехом своим и самым появлением в Веймаре трагедия прежде всего обязана мастерскому, высокохудожественному переводу г-жи Павловой. Я не считал возможным передать так верно и так поэтично, стих в стих, весь характер русского оригинала, со всеми его особенностями и архаизмами. Подобного перевода я не знаю ни на каком языке. Потом живому участию великого герцога, и наконец, необыкновенной добросовестности самих артистов, сохранивших на своей сцене еще гетевские предания. Что ка<… гея до материальных средств веймарского театра, они уступают не только нашим но и других главных городов Германии. Один актер должен часто играть две и три роли в той же пиесе. Так, у меня Сицкого и схимника играл один и тот же. Роли Григория Нагого и гонца были слиты в одну роль. Из двух волхвов один взял на себя роли обоих а другой молчал. Из двух врачей явился только один. Все стольники и слуги были заменены, к моему прискорбию, мальчиками, коих представляли женщины, названные на афише (увы!) пажами. Из сорока четырех лиц «Смерти Иоанна» явилось только тридцать три. Бирючей в народной сцене не было вовсе, а вместо Григория Годунова верхом явился пеший пристав. Костюмы главных ролей то есть Иоанна, царицы, Феодора, Годунова. Ирины и Марии Годуновой, были прекрасны и богаты, прочие только приличны. Народ одет очень странно и совсем не по-русски. Декорации очень не удовлетворительны и небогаты. Но веймарская публика в этом отношении нетребовательна. Она, не избалованная внешнею постановкой, обращает внимание только на игру.