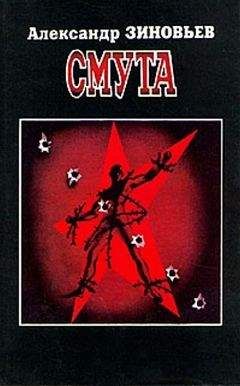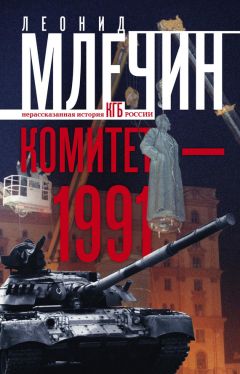Александр Мелихов - Чума
Вот солнце - оно обсуждению не подлежало, от него разрешалось разве что повязывать голову рубашкой, да и то лишь когда в глазах принимались таять и струиться оранжевые кольца. Тем не менее чуть Витя начинал различать Анину голубенькую косынку, как тут же облачался снова. Ребята многие расхаживали полуголые, и Витя не только в собственной ванной, но и в дзюдоистском душе не раз убеждался, что он не хуже других, в мышцах его, пожалуй, даже излишне ощущалась жилистость троса, однако в присутствии Ани он старался не делать ничего такого, что она могла бы воспринять как фамильярность. Он старался и не поднимать глаз на приближающуюся Аню, но уж тут-то, отговариваясь тем, что формально они не совершают ничего неприличного, глаза то и дело вскидывались на нее исподлобья. И - о ужас! о счастье! о конфуз! - чуть ли не через раз сталкивались и с ее глазами. Причем угнездившийся в нем бесстыдник начинал немедленно нашептывать из недосягаемой своей глубины: "Ага, ага, ты видел?!. Она на тебя смотрит!!! А теперь только делает вид, будто подняла голову лишь для того, чтобы распрямиться и подуть снизу на разгоряченное лицо, на самом-то деле ей хочется снова пресечь твое дыхание своей выбившейся из-под косынки трепещущей под ее дуновением прядкой. А выглядывающий краешек лба она вытирает своим особенно чистеньким в соседстве с земляной резиновой перчаткой предплечьем, невероятно тоненьким в сравнении с той властью, которую она имеет над тобой, разумеется же, только для того, чтобы ввести тебя в заблуждение, будто она всего лишь человек, будто ей, как и тебе, тоже жарко, будто и с нее катит пот, но это все делается исключительно для того, чтобы ты мог и дальше воображать, что между вами может быть что-то общее. Но зачем-то ведь и ей нужно, чтобы ты это воображал, а?.."
Прочь, прочь, будто от слепней, отмахивался Витя, но какая-то более спокойная глубина напоминала ему: да ведь на это же и намекала "Юность" с ее уральскими комсомолиями; самое большое счастье - не развлекаться вместе, а вместе делать какое-то большое и хорошее дело... да, собственно, все дела и есть большие и хорошие, ибо сливаются они во что-то совсем уж непостижимое, что охватывает все мироздание от слепня и сорняка до ослепительного солнца среди высокого великого неба.
Это чувство требовало уединения - и тишины, тишины.
Тишины...
Ти...
Ши...
Ны...
Народ, однако, быстро расчухал, что встреча Вити с Аней знаменует половину рабочего дня, и потому приветствовал их несколько полинявшими, но все еще задорными кликами и помятыми, но все еще свежими букетами сорняков. "Встреча на Эльбе! - громче всех орал Кот (Костя) Успенский и, изображая фоторепортера, как бы снимал их из положения лежа, страдальчески взывая: Ну обнимитесь же, обнимитесь!.." Аня и Витя старались снисходительно улыбаться, не глядя друг на друга, однако наглец, управлявший Витиными глазами, все равно успевал отметить, что игра эта не была ей неприятна. Но однажды - сердцу девы нет закона - Аня вдруг действительно шагнула к нему и обняла за, благодарение небесам, одетые плечи и немножко даже припала к нему, обратив разгоряченное лицо (едва слышно обдало нежным теплом) к воображаемому Котовскому фотообъективу с выражением: "Ну что, теперь твоя душенька довольна?"
Витя даже не расслышал аплодисментов и криков "браво, бис, горько!" внутри себя он съежился до размеров дамского кулачка. Он так ошалел, что потащился на озеро со всеми за компанию. Хотя и вчера, и позавчера, и позапозавчера он бочком, бочком отрывался от масс и, не чуя горевших в резине, пересыпанных землей ног, брел к местам, не приспособленным для купания, где мог снова побыть наедине с миром. Собственно, почти весь берег был не приспособлен для купания, бескрайнюю, казалось бы, водную гладь неумолимо стягивало кольцо бебельской сельвы, лишь в одном месте прорванное песчаным протуберанцем Сахары, как, возможно, выразился бы проглоченный аллигатором города Сашка Бабкин. Все нормальные люди там и купались, но сейчас Витя не был нормальным, он не видел никакой разницы между илом и песком. Грязь представляется грязью лишь поверхностному капризному взору эта чрезвычайно важная для общего дела жирная паста, которая очень красиво, словно из тюбика, выдавливается между пальцами ног. В воде же она сначала нежная-нежная, неощутимая и невесомая, а в глубине страстная, присасывающаяся, засасывающая, но надо не терять доверия к миру, и она рано или поздно поддержит тебя, а потом выпустит с безнадежным чмоком - но тут уж ничего не поделаешь, всякой деликатности бывает предел. А тростники все так же кланяются и кланяются над головой своими блестящими коричневыми метелками, иногда вдруг все разом покорно полягут под неощутимым внутри их толщи ветром, а то, наоборот, вразнобой замотают буйными головами, сокрушаясь о своей пропащей доле, и Витя с уже отпустившей им грех укоризной все-таки снова пенял им за того пловца с "Авроры", которого они, опутав, увлекли на дно. При таком очевидном их раскаянии Витя не допускал и мысли, что они и с ним могут проделать что-либо подобное, и когда уже на вольной воде ощущал щекотку каких-то водорослей по животу, то, вопреки обыкновению, не содрогался от этого прикосновения утопленника, а воспринимал его с доверием и пониманием.
От холодной воды немножко захватывало дух, хотелось помолотить руками и ногами, чтобы согреться, но Витя не позволял себе такой распущенности. Он плыл медленным самодельным брассом, терпеливо отфыркиваясь, когда мелкая волна захлестывала лицо - волнам тоже нужно делать какое-то свое дело, - и, щурясь, вглядывался в облака на горизонте. Бока у них были с одной стороны сизые, тучные, зато с другой вздувались мощно и белоснежно, как ветреные простыни, среди которых он однажды заплутал бебельским малышом, и можно было щуриться на них и дни, и месяцы, и годы, если бы не начинала бить такая крупная дрожь.
Стараясь не впадать в бестактную суетливость, Витя выбирался на травяной берег, провожаемый последним, взасос, поцелуем илистого дна, растирался рубашкой, с бережка тщательно ополаскивал ноги, а потом укладывался на спину прямо на жесткий зеленый ворс чистой, как и все в мире, травы и, подложив руки под голову, долго блуждал взглядом по оранжевому небосводу под закрытыми веками. Он старался закрыть глаза раньше, чем в поле зрения попадало неистово лупящее светом солнце, но если оно все-таки успевало чиркнуть по глазу, то на внутреннем оранжевом куполе долго горел бирюзовый след с зеленой головкой, постепенно меркнущей, как остывающая спичка. Трава немножко кололась, какие-то муравьишки немножко покусывали, но покуда они не переходили через край, Витя воспринимал их деятельность с полным пониманием.
Плеск волн, шелест камышей... Невозможно сказать, сколько времени прошло - половина часа или половина века.
Но на обед он никогда не опаздывал - не потому, что так уж умирал от голода, а потому, что не хотел выходить из гармонии с распорядком мира. И в судьбоносный тот день их шуточных объятий он тоже почувствовал, что не пойти со всеми - на этот раз означало бы нарушить гармонию. Он выполнил все - с разбегу плюхнулся животом, побарахтался, поперекидывался шутками, хотя с ним теперь снова шутили не без осторожности, но, ощутив долг перед коллективом исполненным, он позволил себе усесться близ границы песков и трав и, обняв колени, предаться уже не обществу, а миру. Ошеломленность ее внезапным объятием (поселившийся в нем наглец ничуть не сомневался, что уж кто-кто, а она с кем попало так шутить не станет, - "и ты заметил, все аплодировали так, как будто уже давно про вас что-то знали?") не сумела в нем убить чувства странной причастности к какому-то непонятному всемирному действу: бескрайность неба и бескрайность вод он видел даже лучше, чем веселую брызготню возле берега. Озеро то взъерошивалось беспорядочным рыжим волнением, то вдруг укладывалось холодно блистающей кольчугой, затуманенной отражением облаков, от которых к прибрежной суете плыла голубая планета с такой угадываемой под косынкой серьезностью, какую Вите случалось видеть только у плывущих собак.
Витя охватывал собою все мироздание, но изнемогал от благодарности к ней одной. Она была столь безмерно снисходительна по отношению к ним, жалким существам из кожи, мяса и костей, что делала вид, будто и у нее есть такое же тело, по которому способна струиться вода, которое якобы может нуждаться в купальнике, явно составляющем нерасторжимое целое с имитацией тела (чтобы не трудиться сверх необходимого, над каким-нибудь пупком например, она выбрала черный закрытый купальник), и Вите хотелось целовать ее следы от невыносимой благодарности, что она снисходит к тому, чтобы ступать по песку, хотя конечно же запросто могла бы и пролететь над ним. А когда она, опустив за собой незримый, однако же непроницаемый для умеющего уважать святыни глаза занавес, помотав головой, распустила высоко уложенные волосы и принялась их расчесывать - Витя и отвернувшись осознал, с какой необыкновенной деликатностью выбран их цвет: светлые, но не золотые, которые бросались бы в глаза, - это вот, наверно, и есть русый цвет. Какой-то остолоп, не понимая, с кем имеет дело, мимоходом присоединил к ее волосам буро-зеленую плеть водорослей, на мгновение сделав ее похожей на русалку из "Юности" - Витя даже привстал, но она терпеливо сняла постороннюю прядку с листочками, и Витя вновь опустился в прежнюю напряженность. И у него перехватило горло от благодарности, когда она, словно самый обыкновенный человек, прихлопнула комара на загорелом предплечье и, шагнув на траву, по очереди обтряхнула об икры свои ступни, как будто к ним и вправду могло что-то пристать. А уж когда она протащила по траве не успевшую надеться туфлю-лодочку...