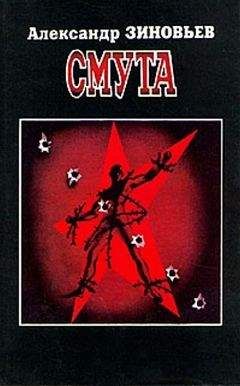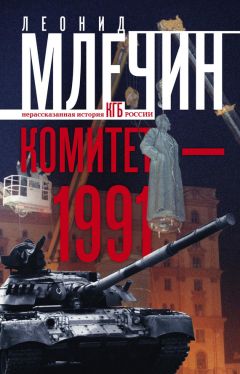Александр Мелихов - Чума
Звенящая Анина речь среди звенящей тишины длилась каких-нибудь полминуты, но запомнилась Вите навеки. Гневный облик восставшей из рядов Ани поражал прежде всего чистотой. Обычно у возмущенных людей смешиваются на лице самые разные чувства: и гнев, желающий испепелить врага, и опаска, как бы чего не вышло, и сомнения в своей правоте, и жажда эти сомнения перекричать, и надежда, почти мольба о поддержке, а поверх всего этого неопрятного коктейля - красные пятна, вздутые жилы, подрагивания, подергивания, - Аня же, как и подобает чистоте, лишь самую чуточку побледнела, обретя еще больше сходство со статуей, но вздрагивать на ней не вздрагивал ни единый волосок из легшей на ее плечи волны (она как будто нарочно для этой минуты остригла свою пухлую косу), и скульптурно правильное лицо ее не выражало ничего, кроме чистоты и негодования, - Родина-дочь, вдруг произнеслось в Витином уме. Голосом неземной ясности Аня уведомила всех, кто когда-либо пробирался на цыпочках мимо капээсэсника, что пользоваться несчастьем слепого человека - низко, стыдно! И не важно, какой предмет он преподает!
Что значит "не важно", история партии - один из самых главных, нахмурился факультетский секретарь, но Витя не дал ему развить эту ответственную мысль - подхваченный волной чистоты, он вскочил и, взяв октавой выше обычного, заголосил что-то покаянно-укоризненное, и только когда шлепнулся на место, обмер: похоже, вышло так, будто он обличает других, а про свой грех...
Секретарь потока хмурился с выжидательным напором, а на лице секретаря факультетского промелькнула какая-то приятная идея. "Что ж, надо выяснить конкретные имена, кто именно..." Витя напряжением век почувствовал, как амфитеатр от нарастающей пристыженности качнулся к недоброй подобранности, и только было с облегчением рванулся снова заголосить что-то беспримесно покаянное - вяжите, мол, православные, я один всех виновней, - как с вовсе уж космической высоты его подсекла на взлете Родина-дочь:
- Как вы собираетесь выяснять конкретные имена?!. Может быть, введем тайную полицию, узаконим доносительство?!.
Тут уж озадаченно притихли и вожди.
А она, статная, ясная, гневная, царила над безмолвными рядами, за нею же в стройном арочном окне чернело высокое, великое небо.
У нее батя был лауреат Госпремии, закрытый членкор, отвечал за всю авиационную начинку, небрежно (и неправильно) разъяснил Анину медальность Жора Степанец и пустился со вкусом рассуждать, что самолеты называют именами авиаконструкторов только по старинке, тогда как сегодняшний самолет - это тачка, которая возит электронику.
Известие о столь бронзовом ее отце отозвалось у Вити под ложечкой таким внезапным спазмом безнадежности, как будто он до этого втайне не смел и мечтать, о чем теперь нечего было и думать. Но думать-то как раз пришлось. С того дня, как они поднялись вдвоем против всех, Аня стала его - нет, не избегать, конечно, это как раз другие начали его немножко обходить, что ли, пока снова не убедились, что он ни на кого больше кидаться не собирается, но Аня в обращении с ним как будто утратила неизменную свою приветливую ясность. О том, чтобы сюда примешалась неприязнь, не могло быть и мысли, уж неприязнь-то она бы никак не стала скрывать, а походило это больше всего на то, как, бывает, столкнешься где-нибудь с хорошим знакомым и чувствуешь, что надо что-то сказать, но ничего подходящего сразу не придумывается, а отделаться стандартным кивком тоже неловко. Походило на то - но ведь это означало бы, что ей, Ане, уже неловко держаться с ним как с посторонним?!.
Витя просто леденел, что она каким-то образом может догадаться о его наглых догадках, и, отвечая на ее уже не простые и ясные, а с микроскопическими заминочками вопросы, он совсем уж не поднимал глаз, с отчаянием чувствуя, что он еще больше затрудняет ей общение с собой и что она все-таки продолжает обращаться к нему с вопросами исключительно для того, чтобы он не вообразил, будто может чем-то ее смутить. Бессознательно налагая на себя епитимью за свою бесстыжесть, Витя и со всеми остальными начал держаться с предельной скромностью, перестал вмешиваться в чужие разговоры, а если к нему обращались, старался держаться как можно ближе к самому буквальному смыслу вопроса. С наступлением теплых дней он извлек было из шкафа с осени припасенную абстрактную, в духе Клее, безрукавку навыпуск ("расписуху", как их называли в Бебеле), но, поразмыслив, тщательно, чтобы не выговаривала мать (но она все равно выговаривала), сложил ее снова и со вздохом упрятал в шкаф: так фраериться было ему снова не по чину.
Зато когда их курс после сессии бросили на прополку, вернее, разбросали по разным усадьбам, Вите никак не удавалось сразу подобрать себе борозду по чину. Сначала он становился как можно дальше от Ани, потом, обмерев, как бы она не подумала, что он против нее что-то затаил, кидался поближе, тут же спохватываясь, да кто он такой, чтобы она вообще стала о нем размышлять, но прежнее место было уже занято, а снова пробираться вдоль заболоченной межи, опять привлекая к себе внимание... Кончалось тем, что Витя оказывался с нею рядом.
Сорняки вскипали дружно, как бебельские пампасы, Аня с ответственной складочкой между бровями принималась уверенно драть их присыпанные цветочками зеленые бакенбарды, но распоясавшаяся Витина наглость нашептывала ему, что она спешит от него оторваться, потому что поддерживать утренний стиль пустого зубоскальства ей с ним уже неловко. Разделываясь со рвущимися затопить цивилизованный мир пампасами, Витя никак не мог удержаться, чтобы не взглядывать украдкой на Аню, обращенную к нему своим обтянутым задним фасадом; он изнемогал от собственной подлости, но в бесстыжих его глазах все равно отпечатывался проступивший треугольник ее трусиков, и стереть его не удавалось ни едкому поту, ни раскаленным слепням, ни занозистому бурьяну, ни ноющей пояснице. На Ане были надеты удивительно каждый раз чистенькие и отглаженные брючки с боковыми разрезиками чуть пониже колена, и Витя понимал, что и длина эта, и разрезики сошли сюда из какого-то высокого, недоступного мира. Брючки были светло-коричневые, но на обтянутых местах сияли на солнце, как золотые купола. В поведении Витиных глаз особым цинизмом его поражало то, что они еще и пристально щурились на запретное зрелище, поскольку работал он без очков.
Вырвать соблазняющий глаз - с этим рецептом Витя не был знаком, но, искупая свою неискупимую низость, он удваивал, утраивал темп расправы с жалящими языками пампасов и скоро сам оказывался обращенным к Ане не самой парадной своей стороной. Он сбрасывал темп, снова наращивал, снова сбавлял и в конце концов решался лучше еще раз подтвердить свою предполагаемую репутацию чокнутого и отправлялся на другой конец поля, чтобы пуститься оттуда навстречу остальным. И чуть только он переставал слышать их голоса "задорные", как именовались они в тех книгах, что он читал до обретения "Юности", - чуть только на него снисходила уверенность, что Ане толком его уже не разглядеть (да и делать ей, что ли, больше нечего, тут же понимал он), как им овладевала никогда прежде не испытываемая серьезность. Им овладевало такое чувство, будто он вместе со всем миром участвует в каком-то необыкновенно значительном деле, для которого решительно все могло оказаться важным - даже отяжелевшие от еще не просохшей росы штаны, даже комочки сухой земли, засыпавшиеся в кеды: вытряхнуть их, конечно, дозволялось, но досадовать, а тем более злиться нельзя было ни в коем случае - мелкими недобрыми чувствами можно было повредить общему делу, ибо в нем каким-то образом участвовали даже серые слепни, хоть это и не давало им права наглеть до бесконечности, на них тоже лежала кое-какая ответственность, и если который-нибудь из них, после того как его смахнешь и раз, и другой, и третий, по-прежнему продолжал искать местечка, где бы присосаться, его дозволялось и хлопнуть, но без ожесточения, без непременного желания уничтожить, а тоже оставляя ему шанс, как бы остерегая его заходить слишком далеко. И сорняки тоже должны были знать свое место - с них довольно было того, что их рвут без ожесточения и торопливости, а затем аккуратными букетами укладывают в борозду, - это был максимум, на что они могли рассчитывать: совхозное поле - это вам не пампасы.
Вот солнце - оно обсуждению не подлежало, от него разрешалось разве что повязывать голову рубашкой, да и то лишь когда в глазах принимались таять и струиться оранжевые кольца. Тем не менее чуть Витя начинал различать Анину голубенькую косынку, как тут же облачался снова. Ребята многие расхаживали полуголые, и Витя не только в собственной ванной, но и в дзюдоистском душе не раз убеждался, что он не хуже других, в мышцах его, пожалуй, даже излишне ощущалась жилистость троса, однако в присутствии Ани он старался не делать ничего такого, что она могла бы воспринять как фамильярность. Он старался и не поднимать глаз на приближающуюся Аню, но уж тут-то, отговариваясь тем, что формально они не совершают ничего неприличного, глаза то и дело вскидывались на нее исподлобья. И - о ужас! о счастье! о конфуз! - чуть ли не через раз сталкивались и с ее глазами. Причем угнездившийся в нем бесстыдник начинал немедленно нашептывать из недосягаемой своей глубины: "Ага, ага, ты видел?!. Она на тебя смотрит!!! А теперь только делает вид, будто подняла голову лишь для того, чтобы распрямиться и подуть снизу на разгоряченное лицо, на самом-то деле ей хочется снова пресечь твое дыхание своей выбившейся из-под косынки трепещущей под ее дуновением прядкой. А выглядывающий краешек лба она вытирает своим особенно чистеньким в соседстве с земляной резиновой перчаткой предплечьем, невероятно тоненьким в сравнении с той властью, которую она имеет над тобой, разумеется же, только для того, чтобы ввести тебя в заблуждение, будто она всего лишь человек, будто ей, как и тебе, тоже жарко, будто и с нее катит пот, но это все делается исключительно для того, чтобы ты мог и дальше воображать, что между вами может быть что-то общее. Но зачем-то ведь и ей нужно, чтобы ты это воображал, а?.."