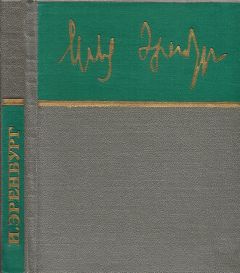Николай Наумов - Юровая
— Всплачешь!
— Помочь-то вам чем бы, это как на грех, ровно я и денег-то с собой не захватил, — говорил он, задумчиво глядя в угол, — право, грех, да у Силантия-то Макарыча вы были? — спросил он.
— Были, не обошли!
— А-а! Он-то чего же говорит?
— Накупился!
— Успел!.. Ну, да кулак-мужик, своего не упустит. А вы к Терентию Силину сходите, может, он!
— Сходи-ко поди! Вза-ашей посулил!
— А-а-ах-ха-ха-а! Да он, ровно, тихий мужик-то?
— Все они тихие… Ходи, говорит, около, а за порог ни-ни. Потому, говорит, ты ломался, так таперя я поломаюсь. Моя льгота!
— Э-эх-хе-хе! Ну-у! А вы к Прокопию Истомину сбегайте, он мужик денежный, и дела у него ноне с рыбой форсисто идут — купит.
Парфен Митрич вместо ответа махнул рукой и, отвернувшись в сторону, почесал в затылке.
— Неуж и у него были? — насмешливо спросил Петр Матвеевич.
— И-и как, то ись, эких людей земля носит, а-ах ты, братец мой! — вместо ответа произнес Парфен Митрич, всплеснув руками.
— И у него выходили?
— Выходили! — повторил он, мотнув головой, — в патрет мне плюнул, слышь, да поднял с полу ошметок валящий. На, утрись, говорит… Слыхал ты экое поруганье, а? — спросил он.
Петр Матвеевич, даже не дослушав его, закатился веселым, порывистым смехом.
— Ай-ай… дело-то ваше, а? — сяроеил он, когда смех его стих. — Пожалуй, что своим-то умом и худо жить, а? — спросил он.
— Убытошно, а-а-ах как убытошно! — ответил Парфен Митрич.
— К кому боле и натолкнуть-то вас, ве знаю, подождите: ужо вечером-то завтра я в обратный поеду, так поговорю кому ни на есть в городе, может и взыщутся охотники и приедут скупать-то ее.
— У-утешил!.. — И Парфен Митрич всхлопнул руками по бедрам.
В толпе пробежал тяжелый вздох.
— Поразорись ты, купи ее, ведь ты балуешь, что денег-то у тебя нет, — вступился Ермил Васильич. — Не ломайся!
— О вас же радею, а ты мне экое слово выворотил, а? — произнес Петр Матвеевич тоном, внезапно изменившимся из шутливого в суровый, бесчувственный.
— С горя-то не услышишь, как и слово-то обронишь, прости, коли в обиду! — извинился он.
— А кто горю-то причинен, ну-ко?
— Не вспоминай, а-ах, будь оно…
— Невзлюбилось… ха-ха-а… Зато своим умом пожили, а?
— Пожили, чтоб его…
— И чать это вы ума-то понабрались, возмечтали о себе, а-а? — презрительно прервал его Петр Матвеевич,
— Не смейся хошь ты-то, ну-у…
— Я-я, то ись, ни-ни… Я говорю только, любопытно бы, как это возмечтамши-то вышли? То ись таперя, к примеру, сидит бы это мужик, к слову говоря, в рваных броднях, на полушубке швы лыком строчены, и вдруг бы это торгующий, ну хоша бы я, недалеко ходить, в лисьей бы шубе, бобер на шапке, денег в карманах что омуля по весне, и мужику-то бы это в ноги. А-а-ах, ха-ха-ха-а!
И, отслонившись к стене, Петр Матвеевич разразился неудержимым хохотом; взрывы его до того были сильны, что порою походили на истерическое рыдание.
Крестьяне стояли молча, понурив головы.
— Ну что ж, пришел я кланяться-то вам, а? — спросил он, отирая с глаз слезы, набежавшие от нервного хохота.
— Мужичью-то работу кланяться никто на свою спину не возьмет, Петр Матвеевич, — тоскливо ответил ему Ермил Васильевич.
— А-а, таперя и смирения накинули, на другой голос запели, да ведь вы же даве говорили, что поклонов моих ждали, а? Что ж, кто кому выю-то склонить пришел, а-а? И мужики вы, мужики! — с расстановкой начал он, презрительно качая головой. — С чего вы энто ум-то показывать вздумали, а? Да нешто мужичье это дело умом-то жить? И почишше-то вас кто, так голова от энтакой фантазии преет, а то мужики, а?.. Чье дело в назме рыться, робить без устани, чтобы кормить преизвышенных фортуной? Умом захотели жить, а-а-ах, ха-ха-ха-а! И перед кем же вы вздумали ум-то показывать, ломаться-то, а? Ты вот нищ, ни-ищ, чем ты и выглядишь, так истертого гроша никто не даст, а я-то кто, а-а?.. Тыщщник… Пойми слово-то: ты-ыщщник! На твоей голове волос столько нет, сколь у меня капиталу, да пошел бы я кланяться вам, а-а-ах, ха-ха-ха-а! О-о-ох, тошнехонько! — проговорил он, схватившись за левый бок. — Ну, что ж вы таперя с рыбой-то вашей будете делать, а? — начал он, отдохнув от схватывавших его колик. — Самим есть — брюхо, говоришь, непривышно, неравно тело нагуляешь, а волостные лозьем сдерут… за подать. Продать некому, ну и что ж ты, а-а? Должон ее обратно в воду кинуть?
И, подбоченившись, Петр Матвеевич впился в них нахально-насмешливым взглядом.
— Гре-ех бы тебе над бедностью-то нашей глумить, Петр Матвеевич! — со вздохом, покачав головой, ответил ему Ермил Васильевич.
— Над бедностью-то и глуми. Богатый-то завсе сам себе господин, его никто, не тронет! Ты вот наживи-ко капиталу, так и тебе всякий за твой ум честь отдаст, и ты будешь вразумлять… Поколь кто беден, так его вводи в чувство-то, в покорность-то, в покорность-то в эту!
— Покорились уж, плачем! Чем ругать-то, ты б слезы-то наши уте-ер! — ответил ему Парфен Митрич, в голосе которого действительно слышались слезы.
— Плакущим-то всем не утрешь — много их на белом свете слоняется!
— Ну, горше-то мужика…
— И энто слыхивали! — прервал его Петр Матвеич. — А ты поновей чего ни на есть скажи, куда вот ты, к примеру, с рыбой-то?
— К тебе одно пристанище!
— А-а… стал… быть, спесь-то повылезла, вспомнили, как и у Петра Матвеева дверь отворяется, а раньше-то вы и плевать на нее не хотели: что ж я теперь должен с вами-то сделать, а?
— Облагодетельствуй!
— По писанию, стало быть, добром за зло, а?.. Кланяйся вот в ноги, и облагодетельствую. Мне вот и не надоть вашу-то рыбу, а снизойду и куплю!
— А-а-а-ах, братец, снизойди… Сделл-милость!
— Я нешто с тобой из одной утробы-то? — строго спросил он обмолвившегося Парфена Митрича.
— К слову, не погневись!
— Ты оглядывай свое-то слово. Я с тобой вот, то ись, и на одну-то половницу не стану! Ты кто есть?
— Хрестьянин!
— А я купец, гильдию ношу… почет… так могу ль я с тобой равняться-то? Я вот и разговариваю единственно по доброте!
— Пошли тебе господи!
— Погляжу, как вы укротились духом. Кланяйтесь-ко!
И он горделиво посмотрел на них, вытянув вперед ноги.
— Поклонимся, братцы, что ж? — обратился Ермил Васильевич к остальным стоявшим за ним крестьянам. — Снисходит к нашей-то нужде, пошли ему господи.
Все молча замялись с ноги на ногу, кое-кто почесал в затылке, а у иного непроизвольно вырывался тяжелый вздох.
— А ты как рыбку-то у нас, по какой цене возьмешь? — неожиданно спросил его Парфен Митрич.
— Ты допрежь себе снисхожденье-то вымоли, а не об энтом разговаривай: твоей-то рыбы мне и не надоть, я исшо об энтом подумаю, купить аль нет, слыхал ли?
— Ты уж сделл-милость, не обидь.
— Энто уж мое дело, подумаю!
— Будь по-божьи друг. Я и спросил-то боле, чтоб, значит, за один поклон обстоять!
— А-а, дважды-то не хошь?
— Прикажешь, и дважды поклонишься, ничего не поделаешь. И низко тебе это кланяться-то?
— По щиколку![5]
— Поклонишься и по щиколку, ничего не поделаешь, — как бы про себя с раздумьем произнес Парфен Митрич. — А-ах, Иван Николаич, уготовил иго, а все бы о цене-то, друг! — промолвил он. — Ну да уж поклонимся, братцы, поклонимся! — произнес он, обратившись к толпе так же, как и Ермил.
Ни один земной владыка так горделиво не принял бы отдаваемых ему почестей, как принял их Петр Матвеевич от унижающихся бедняков.
— Поняли ль теперь мою-то науку, а? — строго спросил их Петр Матвеевич после окончания поклонов.
Все замялись и молча робко посматривали друг на друга.
— Как же я теперь должен торговаться-то с вами, ведь вы таперя во-о где сидите у меня все! — произнес он, показав им сжатый кулак. — Захочу я — и сыты будете, не захочу — и будете помнить, каково с Петром Матвеичем шутки шутить! Три гривны с пуда на свал, а-а? — И, весь избоченившись, он прищурил глаза и, медленно отбивая такт ногой, смотрел, какое впечатление произвела на них речь его.
— Не пужай хошь для бога-то! — ответил ему Парфен Митрич, заискивающим взглядом смотря на него.
— А не пужаю если, и отдашь?
— Отдашь, а-ах, и разоришься, да отдашь! — согласился он.
— Почувствовали таперя, что я такое?
— Пожалуй, что почувствовали, а-ах, чтоб ему… эфтому Ивану Николаеву. Ну-у, будем помнить, почувствовали! — снова повторил он.
— И помни, я вот и разорить тебя могу, а не зорю… душа есть… я вот тебе полтину даю, снисхождение, ли?
— Снисхождение, дай тебе господи, а все бы, души-то во спасенье, семь гривенок положить бы надоть, а?
— Рубь не хошь ли?
— Не дашь ведь рубля-то, так только язык точишь, а помолились бы а-ах как! И денно бы и нощно на молитве!
— Ну, молитвы-то энти до другого разу запаси, а ноне и за полтину благодарствуй.