Викентий Вересаев - К жизни
– Тум-тум-тум… – шли звучащие ступеньки в темную глубину.
Спорят. А в глубине души у каждого лежит, клубком свернувшись в темноте, бесформенный хозяин; как будто спит и не слышит стучащихся снаружи слов и мыслей.
Иринарха дома не было, были только старики. Славно у них всегда – бедно, но уютно и оживленно, хочется чему-то улыбаться. В уголке сидит молчаливый Илья Ильич и курит. Шумит старенький, ярко вычищенный самовар, Анна Ивановна сыплет словами, и лицо у нее такое, как будто она сейчас радостно ахнет чему-то. И светлые голубенькие обои с белыми цветочками.
Сидела в гостях Юлия Ипполитовна, вечно больная тетка Маши. На губы она нацепила улыбку, а холодно-злые глаза смотрели по-всегдашнему обиженно. Анна Ивановна рассказывала про какую-то знакомую.
– Две недели целых мучится. Кричит без перерыву. Морфий впрыскивают, ничего не помогает. У меня до сих пор в ушах стоит ее крик… Как мучится человек!.. Вчера ухожу от нее, – она поманила, я наклонилась, шепчет мне в ухо: Анна Ивановна, милая! Попросите доктора – пусть он меня отравит. Нет моих сил терпеть!..
Ее голос задрожал, и легко выступающие слезинки заблестели на глазах. Юлия Ипполитовна думала о себе, она забыла держать на губах улыбку и измученно сказала:
– Господи, господи, зачем столько страданий дано человеку? Пускай бы умереть, – я всегда говорю: что в смерти страшного? Но только бы без страданий.
Анна Ивановна на секунду задумалась, как будто споткнулась, и одушевленно заговорила:
– Нет, нет, Юлия Ипполитовна! Нет! А по-моему, уж лучше пусть страдания. Какие угодно страдания, только бы жить! Только бы жить! Умрешь, – господи, ничего не будешь видеть! Хоть всю жизнь готова вопить от боли, только бы жить! – Она засмеялась. – Нет, и думать не хочу о смерти! Так неприятно!
Илья Ильич курил в сторонке, слушал и играл бровями. Беззвучно смеясь, он наклонился ко мне.
– А мне это все равно, совсем спокойно слушаю! До меня это дело не касается!
– Что не касается?
– Вот, о смерти эти разговоры. Я не верю, что умру.
Юлия Ипполитовна посмотрела на него со своею внешнею улыбкою.
– То есть как не верите?
– Так-с, не верю! Как это может быть? Что все другие умрут, – я понимаю, а что я? Не может этого быть… Знаю, что умру, а не верю.
Пришел Иринарх с братьями-гимназистами. Они бегали на пожар.
– Ну что? Ну что?
– Да ничего не было! Просто из трубы выкинуло.
Иринарх смеялся и тер озябшие руки.
– Полное, всеобщее разочарование!.. Бегут все, толпятся, напирают. Уж личности какие-то появились, подсолнухи продают, сбитень… Жадно все суются вперед, ворочают головами. "Где, где горит?" Городаш стоит, осаживает публику. Прет какой-то в широких штанах. "Куда, эй!" – "Да я вот только сюда". – "А в морду не желаешь получить?" – "В морду?" – Подумал, почесал в затылке. – "Нет, чтой-то сейчас не хочется…" "Да где же горит-то?" Два пожарных по крыше ходят… Ждала, ждала публика. Уж пожарные уехали. Все стоят, прижидаются: а может быть!..
Юлия Ипполитовна снисходительно заметила:
– Толпа ужасно падка на такие зрелища.
– Я и сам падок! Мне кажется, из меня мог бы выработаться профессиональный зевака. Как интересно! Ух, люблю пожары! Пламя шипит, люди борются, публика глазеет!
Анна Ивановна замахала на него руками.
– А ну тебя! Есть что любить! А я ужасно боюсь… Батюшки, да что же это я? Вы все убежали, а наверху, должно быть, свет остался… Захарушка, пойди посмотри, что там наверху горит?
Захар пошел, воротился и торжественно доложил:
– Две лампы и одна штора.
Анна Ивановна ринулась наверх. Все захохотали.
– Дурак! Как ты смеешь? Я тебе мать, а ты надо мною шутки шутишь?
– "Мать"… Ты до ста лет будешь жить, а все будешь мать?
Анна Ивановна хотела еще больше рассердиться, но рассмеялась.
– Вы знаете, это тут рядом в богадельне две старушки, мать и дочь. Одной девяносто лет, другой семьдесят. Дочь начнет мать ругать, та ей: "Ты бы постыдилась, ведь я табе мать", – "Да-а, мать! Вы до ста лет будете жить, а все будете мать?"
Иринарх, не слушая, пил чай и говорил:
– Эта потребность возбуждения, возбуждения! Горчицы, перцу, чтоб рот обжигало… На днях как-то взяла меня тоска, пошел я пройтись. Балаганчик, надпись: "Визориум из Парижа". Зашел. Восковые фигуры во фронт с выпученными глазами – Бисмарк, президент Крюгер, Момзен… "Разбойница Милла, наводившая панеку (через ять) не только на людей, но и на правительство"… и как полиция позволила… "Штейн, для личной выгоды убивший адскою машиною двести человек"… И тут же эта адская машина – ящичек какой-то из-под стеариновых свечей, скобочки ни к чему не нужные, винты, гайки, – подлинная! И совсем целенькая! "Любимая жена мароккского султана" – глаза открываются и закрываются, грудь дышит: турр-турр!.. турр-турр!.. Подходит рябой мужчина с двумя другими. "А где тут болезни показывают?" – "Не знаю. Да нету тут". – "Е-есть! Как нету? Должны быть!" Полез под какую-то рогожку, его оттуда турнули… Уж требуется более острое ощущение! Разбойница Милла и жена мароккского султана приелись!.. Вышел я, всю дорогу хохотал.
В жестах Иринарха, в ворочанье глаз, в интонациях голоса живьем вставало то, о чем он рассказывал, и все видели жизнь сквозь наблюдающе-смеющуюся, все глотающую душу Иринарха.
Стоял смех. Гимназисты острили. Была та уютная, радующаяся жизни поверхностная веселость, какою полны все они. Анна Ивановна снова и снова наливала Иринарху чай. Иринарх жадно пил и жадно говорил:
– После обеда сегодня шатался я по городу. Лампадки в воротах Кремля. Узкие улицы, пахнет мятою и пеклеванками, мужики у лабазов. Каменные купеческие дома, белые, с маленькими окнами, как бойницы. И собор. Кажется, Гете сказал, что архитектура есть окаменевшая музыка. В таком случае наш собор есть окаменевший вой; так ровно, прямо – ууу!.. (он медленно повел ладонями вверх). И вдруг – стой: купола! Широкие луковицы – и коротенькие, узенькие хвостики к небу. Дескать, там, наверху, много делать нечего. Не то, что в готике. Сколько там порыва к небу! Дунь на миланский собор, – он полетит на воздух. А в наших куполах сколько тяжелой массы, сколько земли! Выть – вой, а все-таки цепляйся за земь. И этот собор наш прекрасен, всегда скажу! Почему? Потому, что он на своем месте, выражает свою сущность. А в мире все прекрасно, если оно проявляется из себя, если не косится по сторонам…
Саша серьезно спросил:
– Ира, ты уже сто стаканов выпил?
– Сто, сто, – рассеянно ответил Иринарх.
– Что ты врешь? – возразил Захар. – Двести пятьдесят, я же считал… Ира, ведь двести пятьдесят?
– Двести пятьдесят, да.
Все хохотали. Иринарх кротко огляделся.
– Я не расслышал, что вы меня спрашивали. – И продолжал говорить. – Кругом одна громадная, сплошная симфония жизни. Могучие перекаты сменяются еле слышными биениями, большие размахи переходят в маленькие, благословения обрываются проклятиями, но, пока есть жизнь, есть и музыка жизни. А она прекрасна и в гармонии, и в диссонансах, через то и другое одинаково прозревается радостная первооснова жизни…
Иринарх помолчал и задумчиво прибавил:
– Тепло становится в голове, когда мысли эти прихлынут.
Кипел самовар. Весело улыбались голубенькие обои с белыми цветочками. Анна Ивановна умиленно слушала, хоть мало понимала, и в ее полном, круглом лице удивительное было сходство с бородатым, продолговатым лицом Иринарха. На меня нашло странное настроение. Я смотрел, – и мне казалось: одно и то же существо то вдруг расплывается в круглую женскую фигуру, то худеет, вытягивается, обрастает бородою и говорит о симфонии жизни… Потом вдруг перекинется стареньким, ярко вычищенным самоваром и весело бурлит про какую-то бездумную радость. Молчаливо скользнет голубым светом по стенам. И вот опять сидит с бородою, с крутым, нависшим лбом, в тихом восторге вслушивается в себя и говорит умные слова о жизни.
Ну да! Ведь в этом же все и дело. Что мысли Иринарха сами по себе? Дело вот в этом неуловимом, что здесь разлито кругом, что у всех у них в душах. Иринарх нечаянно познал самого себя, нащупал умом точку, с которой они здесь принимают жизнь. Вот отчего он живет в таком непрерывном, непонятном со стороны восторге. Это восторг от открытой истины. И он вправду открыл истину – для себя, для этого вот дома на Съезженской улице в городе Томилинске. Открыл свою истину. И свою-то истину, пожалуй, открыл не целиком, – не может же даже его истина быть такою смеющеюся. А он рад и думает, что нашел истину вообще, для всех людей, – убежден, что даже Юлия Ипполитовна, с ее брезгливыми к жизни глазами, должна бы только постараться понять…
И так для всех. Да, так для всех. Каждый спустись в глубь своей души и ищи там свою истину. И только для тебя она и годна. Но что же это? Искать и решать, каков параллакс Сириуса, каковы электрические свойства нерва – это мы можем все вместе. А зачем жизнь, в чем она – это решай каждый, запершись в себе?

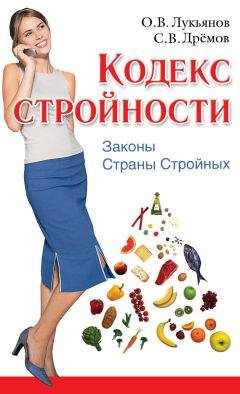

![Фредерик Дар - Глаза,чтобы плакать [По моей могиле кто-то ходил. Человек с улицы. С моей-то рожей. Глаза, чтобы плакать. Хлеб могильщиков]](/uploads/posts/books/148319/148319.jpg)
