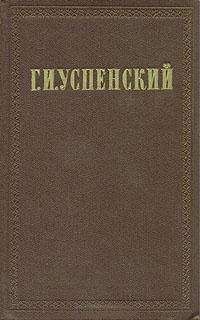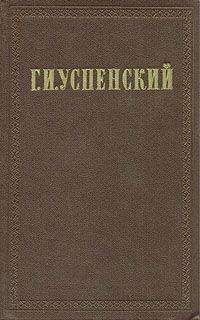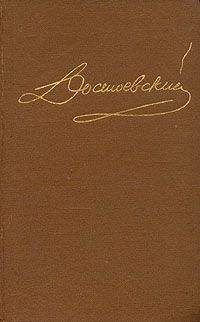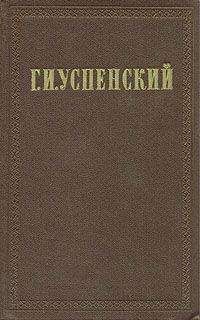Глеб Успенский - Очерки и рассказы (1862-1866 гг.)
Таким образом класс салопниц получает полное право гражданства в этом обществе мелких чиновных людей; это чиновные ведомости, газеты, и если бы существовали такого рода ежедневные известия для столичной мелкоты, то для того, чтобы они имели громадный расход, нужно чтоб все содержание их состояло из рассказов салопниц; дальше этих россказней и сплетен интересы столичной и нестоличной мелкоты не идут.
Все эти шарманщики, акробаты, оркестры, бедные, но благородные люди — все это будничные типы столичной нищеты. Они постоянны, иногда только бывают некоторые вариации, но при внимательном размышлении непременно придется заключить, что это одно и то же.
Но иногда, среди столицы, в темной улице, в дождь, останавливает вас плаксивая, совершенно не похожая на столичную, просьба русского деревенского нищего:
— Батюшка! Милай ты мой! Подай, батюшка, нищенкам…
Вы оборачиваетесь и видите перед собой толпу простых деревенских побирушек: мужик, охающий, как баба, и баба, в великую, внезапно нагрянувшую беду получившая вдруг твердость, — все это в рубищах, в рвани протягивает к вам свои руки. Мальчишки и девчонки с непокрытыми головами, разиня рты и спрятав руки в глубину своих рукавов, — что-то гудят жалобное, под стать горькой просьбе своих отцов…
— Подайте, кормилецы! — твердят они.
— Кто вы такие?
— Мы дальние, батюшко… дальние…
— Как вы сюда попали?
— Ды так, батюшко, и попали… что дома-то делать? все одно — есть нечего. Ну вот и пошли по миру… деревня за деревней, город за городом — так и доволоклись.
— А отчего ж вы по миру-то пошли?
— Ах, милый человек, — великое тут горе случилось…
Баба начинает хныкать и рассказывает свою историю великого горя, которую я теперь и хочу передать здесь.
IIМаленькая деревенька Лемеши, в одной из южных русских губерний, только что начинала освобождаться от снегу, из-под коры которого выступила темная и распаренная весенними лучами земля. Наконец против этих весенних лучей не устояли последние тоненькие слои льда и снежные залежи в оврагах, и весна зацарствовала над лесами и полями. Но для Лемешей это пришествие было нерадостно: только что лемешовский мужик Иван вышел впервые в поле с разными хозяйскими думами, как на черной и начинавшей просыхать земле он заметил крупу не крупу, а так какие-то семечки. Сердце Ивана забилось… Он помнил, что в прошлом году неслась чрез Лемеши саранча, помнил, как она в то время закрыла весь небосклон, как опустилась на лемешовскую рожь и понеслась дальше. "Не положила ли она яиц своих?" — содрогаясь, думал Иван и опрометью бросился в деревню разузнать, что это за крупа такая в самом деле. В каждой деревне есть такого рода старички, которые более или менее, сообразно своим летам, помнят историю села или деревушки. Между лемешовскими стариками были такие, которые помнили, как к ним налетела саранча, как ела и крушила она всякий посев и сколько в то время пошло по миру людей. Вот этих-то стариков и поволок мир в поле. Долго разглядывали они загадочную крупу, наконец все решили:
— Сарана! [1]
Все замолкли; неотводный божий бич висел над головами всех.
— Как быть?
— Надо теперь, братики, собирать ее… да покуль она не народилась…
Общая опасность и громадность этой беды были так велики, что мир тотчас же принялся за дело, и всю саранчу, которую увидел Иван, в одно мгновение собрали в мешки и представили в волость; собрано яиц всего четыре четверика; писарю ничего не стоило в докладе начальству написать, что, при усиленных трудах его, — опасность миновалась, ибо собрано яиц саранчи до сорока четвертей; начальству ничего не стоило в свою очередь написать в донесении своему начальству, что, при усиленных мерах его, — опасность прошла, ибо собрано яиц до четырехсот четвертей. Везде мир и гладь: меры предпринимались быстрые; зло истреблено в корню — к всякое начальство довольно по горло. Мало того, оно хочет, чтоб были довольны и там; и действительно, скоро и там узнают о неимоверных усилиях всех властей к истреблению саранчи, — усилиях, приведших к самым благоприятным результатам, ибо собрано до четырех тысяч <четвертей> брошенных этим подлым существом яиц.
А между тем пашни лемешовекие вопахались, прошел май и июнь, и на них уже стояла полчищем колосистая рожь. Жара была нестерпимая, целые дни собирался дождь, по небу ходили какие-то дымно-синие тучи, вдали видны были полосы дождя, и в жаркие полдни издалека доносились раскаты грома, а по вечерам со всех концов неба вспыхивали зарницы, но дождя не было, и зной палил.
В один из таких дней лемешовский мужик, возвращавшийся из города проселком, пролегавшим чрез рожь, изумленно вытараща глаза, увидал, что весь длинный и узкий проселок словно шевелился и, как покрытый водою, блестел на солнце; но стоило только вблизи шевелящейся массы застучать телеге и лошадиному копыту, как дорога и песок обнажались снова. "Сарана!" — испуганно заключил мужик и поспешно слез с своей телеги…
Он быстро подошел к окраине ржи, присел, и перед его глазами открылась страшная картина: полчища саранчи, сотнями лепившейся около каждого колоса, шли на лемешовскую рожь и из лемешовекой переползали через дорогу в соседнюю. Растерявшийся мужик не знал, что думать; позабыв про лошадь, он пошел вдоль проселка, и везде была саранча. Верста, другая, Лемеши уже в стороне, а саранча все идет, все идет, и вместе с тем, не останавливаясь, шествует вперед ополоумевший мужик. Дело страшное! Тут только пришло в голову, что сбор яиц, найденных Иваном, был вовсе недостаточен и что лень, отчасти укрепленная этим четырехчетвериковым сбором, — укрепляла естественное желание покоя и чаще заставляла говорить и думать: "авось бог помилует" и проч.
Тот же невыразимый страх, который заставил мужика окаменеть при виде саранчи, заставил его и опомниться. Бросился он к своей телеге и лошади, которые оставались далеко от того места, куда незаметно забрел мужик, и скоро Лемеши знали опять про великое горе…
Бабы заголосили; мужики шарахнулись на сходку толковать: "как быть?"
— Православные! — говорил с крыльца голова: — дело это божее — нужно, стало быть, тут осторожно…
— Чтобы не прогневить его, батюшку…
— Это верно!
— Что ж теперь делать, православные? — спрашивал опять голова.
— Как мир… — отвечали в один голос все, то есть сам же мир.
— Ну вот, стало быть, и надо миром толковать…
— Чаво толковать, коли тут головы твоей нехватает! — вдруг произнес сурово кто-то.
— Ты, Мироныч, этого не говори: над нами и так гроза висит, а ты лаешь, — это нельзя.
— Как не лаять, коли совсем пустые разговоры заводить начали. Можешь ты об этом толковать, когда ты в этом никакого рассудку не имеешь?
— Обноковенно я не могу; дело это для нас внови… И надыть сейчас старичков вопросить: как они…
— Стариков, стариков, — заговорил мир…
В ожидании стариков мир молча толпился у крыльца расправы. По временам слышался шопот, и голова, присевший на лавку, иногда поправлял на лбу волоса, сдуваемые ветром.
— Эка напасть! Ах ты, господи!.. Теперь совсем пропащее дело, — слышалось иногда.
Скоро пришли старики; с полчаса стояли они молча, опершись на свои палки, и кряхтели.
— Ну что ж, как, старинушки, по-вашему-то? — в сотый раз допрашивал их голова.
— Да что по-нашему-то? По-нашему-то это дело нужно совсем бросить!
— Как так?
— Да так; потому это божеское наказание, и нам, грешным, ничего тут не сделать.
— Да оно так… только как же это, милые… есть тоже надо. По миру, что ли, пойдем?
— Господь захочет — и по миру пойдешь.
— Это, православные, — вмешался голова: — так точно он говорит, что собственно мы еще господа-то благодарить должны — вспомнил нас… рабов своих.
Доказательства к бездействию были верны, непреложны, и мужики только с крепкими думами расходились по домам, где их ждали бабьи слезы.
А саранча размножалась больше и больше. Через неделю принуждены были отслужить молебен на пашне и обойти все посевы с крестами. Еще через неделю отслужили другой молебен и начали думать, как укрыться, — божий гнев был слишком велик. В этих мерах против несчастия горячее и прежде всех выказали себя некоторые особы из помещиков, испокон веку занимавшиеся агрономией и изучавшие русское хозяйство по немецким книжкам.
Первая мера, которая была принята лемешовским начальством, состояла в следующем: от каждого крестьянского двора потребовалось в волость по девяти аршин холста; холст был представлен немедленно, и тотчас же на каждых трех десятинах устроились из этого холста палатки. Основываясь на том, что саранча имеет слишком чуткий слух, агрономы рассуждали, что если в этих полотняных палатках вырыть ямы и посадить в тех же палатках по мальчишке с дудочкой, на которой тот посвистывал бы хоть таким образом, как подманивают перепелов, — то саранча пойдет на эту музыку, придет в палатку, попадет в яму, — а здесь музыкант и должен был прихлопнуть ее особенного рода колотушкой.