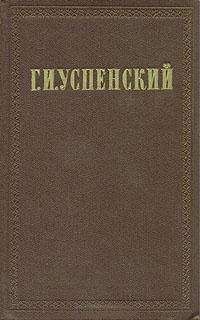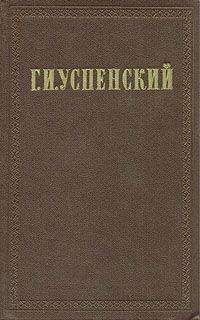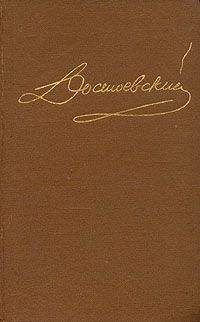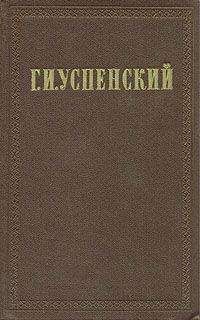Глеб Успенский - Очерки и рассказы (1862-1866 гг.)
Оркестр между тем кончил какую-то пьесу; трубачи, перевернув вниз трубы, выдувают из них накопившуюся от дыхания воду, — и некоторые из музыкантов посматривают на публику, разместившуюся по окнам: очевидно, нужна подачка; об ней не говорится, потому что все эти бедняки, к большому их несчастию, люди с самолюбием, развитым данным на несчастие талантом. И это, по-моему, самые жалкие и в особенности достойные помощи бедняки.
Однако оркестр кончил; скрипачи и кларнетисты засовывают свои инструменты под полы своих сюртуков и пальто, маленькие музыканты-нищие нагружают, кроме того, на свои спины кипы нот; они несут подмышкой пюльпитры, и вслед за всей капеллой музыкантов ползет под ворота и толпа зрителей. Мастеровые, с ременными ободочками на головах, подхватывают с земли своих ребят, слышны говор, смех; скоро оркестр гремит на другом дворе, и потом жизнь входит в свою обычную колею — стучат ножи, из нижних этажей валит удушливый запах цикорного кофе, поджариваемого в бесчисленном количестве, — настает мир стряпни и дела. Но внутренность двора опустела ненадолго. Если в это время, через несколько минут по уходе оркестра, разносчик не кричит: "кавры половые", то скрипит водовоз, или некоторый человечек в подряснике из простого черного сукна, с ременным поясом и открытой головой, звонким тенором поет на весь двор: "На построение погоревшей" и проч. Он потупил свои бойкие глаза в книгу с несколькими медяками на переплете и, медленно обходя около стен, причем старается ближе подойти под окна, неумолкаемо тянет свою всенижайшую просьбу.
— Милый человек! — возглашает, выступая из дверей нижнего этажа, персона женского пола, по всей вероятности вдова какого-нибудь фельдфебеля. — Зайди, бога ради, на малое время.
Подрясник ниже нагибает голову, что означает поклон, и заходит ко вдовице. Тут сейчас затевается самовар, — и за этой скромной, но весьма продолжительной трапезой, под неоднократно возобновляемое доливание в самовар, тянутся рассказы: какие на земле есть места чудные, и какие разные бывают чудеса, и проч. На эти разговоры стекаются разные вдовы и съемщицы, и под конец многие прослежаются. А странник скоро на другом дворе поет попрежнему: "На построение погоревшей" и проч.
— Милый человек! зайди на малое время! — раздается голос из-под крыши. И снова самовар и снова рассказы. И невидимо зиждется погоревшая обитель.
Настает тишина, и опять-таки ненадолго; побирушки разных видов и наций поминутно сменяют друг друга. Входит кучка людей в каких-то рваных сюртуках, из-под которых выглядывают ноги, обтянутые в трико. Тут же много ребят — тоже в трико; на головах у них надеты венки, состоящие из бумажного обруча, перевитого разноцветными коленкоровыми лентами. Это акробаты; они скоро раздеваются, расстилают на голых и мокрых камнях рваный ковер и начинают свой спектакль. Под музыку шарманки и бубна кувыркаются эти нищие, ломают ребят, — и вас невольно остановит и заставит задуматься судьба этого маленького существа — мальчик ли оно или девочка, неизвестно, — которого на ваших глазах какой-то геркулес, должно быть глава всей шайки и, стало быть, нищий из нищих, хватает одной рукой за пояс на спине, подымает вверх над всей толпой и заставляет дрыгать маленькими ногами и ручонками под звуки канкана. Тут рождаются уже ученые побирушки; от отца в наследство переходит вся наука попрошайничества.
Наконец на ваш карман рассчитывают полчища шарманщиков, целый день гудящих под вашими окнами разные арии и русские песни с припевом безрукого, но голосистого солдата. Если вам приходится выйти на улицу, то во всяком случае вам не придется долго остаться без того, чтобы кто-нибудь не заявил своего желания попользоваться вашим карманом. Если вам приходилось долго ходить по одной и той же улице, то вы непременно заметите, что на одном и том же месте весь день стоит какой-нибудь солдат, слепой, весь обвязанный тряпками; рядом с ним старуха, тоже в лохмотьях; один играет "Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке" или что-нибудь другое, — старуха поет. Эта картина производит неприятное впечатление. Когда бы вы ни шли мимо этой четы, все она в одном и том же положении: старуха что-то хрипит, старик вертит ручку сиплой шарманки и другой рукой беспрестанно водит по крыше своего инструмента, надеясь нащупать монету.
Кроме того, во всякое время дня и ночи не раз придется встретить вам некоторых персон, именующихся отставными капитанами, офицерами, воевавшими при Севастополе и проливавшими именно за вас, за ваше спокойствие свою благородную кровь.
Вздергивая своими массивными плечами и держа картуз сбоку головы, трогательнейшим голосом произносит воин свою просьбу:
— Помогите бедному, беззащитному офицеру! Подавал прошение на службу — нет местов… Жена, дети… Позвольте у вас покорнейше просить три рубли серебром.
— Не могу-с.
— Ради всего священного…
— Помилуйте, — да у меня самого теперь нету таких денег.
— Ну, сколько можете.
— Двугривенный — возьмите.
— Ах! Миллсс. дарь! Вы не понимаете всей тяжести… н-но! позвольте. Блаадаррю вас! Хотя грешно такой ничтожностью обижать человека… можно сказать…
— Делать нечего. Вы идете.
— Бог, милл…осдарь, со временем припомнит вам! — кричит особа издали. — Желаю вам испытать те чувства, которые в настоящую минуту…
Вы продолжаете идти.
— Двугривенный!.. Свинья!.. — заключает особа, понимая, что вы уж не расслышите этих слов.
В другой раз вы идете пустынной улицей. Ночь. Дорога ваша лежит как раз против какой-то части. Ни души. Стук ваших собственных шагов только и слышен кругом.
— Почтенный гасспадин! — раздается над вашим ухом.
Вы оборачиваетесь: какое-то существо мужеского пола в картузе с разодранным козырьком и в довольно прохладном костюме.
— Что вам угодно?
— Позвольте узнать, сделайте милость, где здесь первая часть?
— Вот она!
— Ах-с! Не имея пристанища, как благородный человек, хочу попросить правительство укрыть меня от ночи.
Персона эта заявляет вам причину ночевать в полиции именно потому, чтобы вы выкинули из своей головы всякую мысль о его темном существовании, о беспаспортности и проч. Если он сам идет в полицию и если он действительна беспаспортный, бродяга, — то уж там ему быть — не миновать. Стало быть, он вовсе не какой-нибудь, если не боится этого. Затем неизвестный рассказывает вам, что он пять часов тому назад только в Петербург приехал сюда с барином; барин ушел из гостиницы, унес с собой ключ, и он принужден скитаться кое-где.
— Ну, пойдемте, я вас проведу в часть.
— Благодарю вас, милостивый государь… пойдем-те-с. Но не можете ли чем-нибудь помочь?
— Не могу ничем.
Мы идем; около самых дверей части неизвестный останавливается.
— Мил…сдарь! Я теперича опасаюсь…
— Как?
— Ну-ко барин придут — меня нету? Лучше я домой.
— Как хотите.
— Так точно, я лучше домой-с. Хоть пяти копеек нет ли у вас?
Вы даете.
Особа мгновенно юркнула в тьму, и скоро издали вы слышите такое приветствие:
— Шаромыжник! Подавись ты своим пятаком! — отчетливо произносит знакомый голос, из заискивающего превратившийся в подлый и дерзкий.
Класс салопниц, без сомнения принадлежащий к числу побирушек, сумел так себя поставить в чиновном быту, что, вполне проживая на счет этого бедного и постоянно нуждающегося народа, ни разу не отопрет рта для того, чтобы попросить о чем-нибудь: все дается им добродушными хозяйками без просьбы, ибо эти хозяйки крайне обязаны салопницам за убитую скуку целого будничного утра, за кучу новостей, за совет, как узнавать, когда у ребят зубы начнут прорезываться, за предсказание — кто будет новорожденный: мальчик или девочка. Последние предсказания всегда сообразны с желаниями родителей.
— Страсть как я мальчиков люблю! — говорит чиновница.
— Постой-кось, ангельская душа, — говорит ей салопница. — Я сейчас погадаю, — ты только повернись лицом к солнцу, на полдень!
Чиновница повернулась.
— Видишь ты, как оно обозначает. Дай-кось в эфтом месте пощупаю.
— Щекотно, Власьевна.
— Ну, я ведь чуток. Шевелился?
— Третёводни так-то забился!
— Гм. Ну, а Семен-то Петрович с которого боку ложится?
— С левого. Он у меня всегда под левым боком, как чурка какая, валяется.
Салопница смотрит внимательно на лицо будущей матери, не раз щупает в разных местах, причем чиновница взвизгивает от щекотки и говорит: "Как тебе не стыдно!"
— Ничего, дело женское, знаю, — все прошла.
— Ну, — кто?
— Мальчик!
— Фекла! Станови самовар! Беги в лавку: сливок… кофею… Власьевна, вот тебе платок ковровый! — бушует обрадованная чиновница.
Таким образом класс салопниц получает полное право гражданства в этом обществе мелких чиновных людей; это чиновные ведомости, газеты, и если бы существовали такого рода ежедневные известия для столичной мелкоты, то для того, чтобы они имели громадный расход, нужно чтоб все содержание их состояло из рассказов салопниц; дальше этих россказней и сплетен интересы столичной и нестоличной мелкоты не идут.