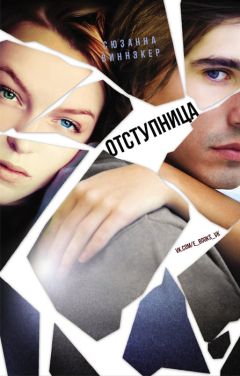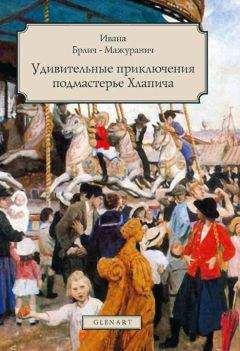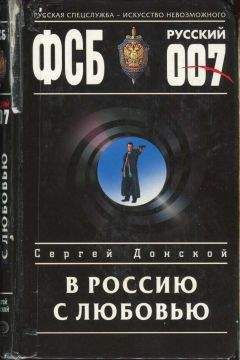Михаил Волконский - Вязниковский самодур
— Ну, не ожидал я, что вы, дети мои, уж до того легкомысленны! Над ними, можно сказать, дамоклов меч висит, а у них счастливые лица, и хоть бы что! — укоризненно проговорил он, смягчая, однако, укоризну невольною улыбкой. — Ну, давайте скорее!.. Ах, да все равно не поспеть… не поспеть… — повторял он, быстро, умелыми руками наспех прикалывая букли. — Не поспеть напудрить…
Гурлов в это время тихо и виновато в углу надевал свой парик и очки, преображаясь в помощника Прохора Саввича.
На сцене, возле уборных, прозвучал первый звонок. По третьему — поднимали занавес, а по второму — участвовавшие в акте артисты должны были выходить на свои места за кулисы.
— Когда же тут пудрить? — уж с отчаянием произнес Прохор Саввич и остановился с растопыренными руками, положение было безвыходное.
Вдруг он наморщил брови, мотнул головою, и Гурлов, с беспокойством следивший за ним, в первую минуту думал, что он внезапно помешался. Затем Прохор Саввич схватил ножницы, схватил голубые бархатные панталончики, лежавшие на стуле (в них Параша играла пастушка), и начал резать их. Не успел опомниться Гурлов, как из лоскутьев голубого бархата на голове Маши образовался чудесный причудливый убор, удивительно оттенявший золотистый мягкий природный цвет ее густых белокурых волос.
— Идите, идите так! — приказал Прохор Саввич, — идите, пора!..
Идти действительно было пора: на сцене давали уже второй звонок.
XXII
Декорация изображала «пейзаж времени Золотого века», который настал для действовавших в пьесе добродетелей. Эти добродетели, сгруппированные на авансцене, ждали появления богини судьбы.
Но вот заиграла музыка, и в облаках спустилась в белом, шитом серебром платье Маша с золотым жезлом в руках.
Публика ахнула вся, как один человек. Маша была очень хороша, и красота ее еще ярче выделялась, благодаря невиданной еще, новой, непудреной прическе с голубым убором.
Сам князь в первую минуту дрогнул на своем кресле в ложе. Он не знал еще, следует ли ему рассердиться или нет за то, что без его позволения была введена на сцену такая новизна. Положим, это было очень красиво, но если только эта новаторша сделает теперь хоть малейший промах, тогда берегись она!
Маша уверенно сошла с облаков, не спеша приблизилась к рампе и начала говорить стихи:
Блаженны времена настали
И истины лучом нас облистали.
Подсолнечна, внемли!
На удивление земли
Князь Каравай-Батынский рек:
«Настани ты,
Златой желанный век!»
И се струи российских рек,
Во удивление соседам,
Млеком текут и медом!»
Стихи были длинные и, в сущности, очень нелепые. Маша говорила их нараспев, с попеременным повышением и понижением голоса, в чем именно и находили тогда прелесть декламации. Но не это восхищало в ней зрителей. На самом деле выручали ее красота, ее грация и милая наивность, с которою она говорила свою роль. Нельзя было не любоваться ею, не слушать с удовольствием ее серебристый, ясный голос. И все слушали с затаенным дыханием, восхищались и одобрительно кивали в такт головами.
Когда она произнесла последнюю строчку, общий взрыв рукоплесканий раздался в зале, публика захлопала в ладоши и обернулась к ложе Каравай-Батынского, как бы приветствуя его и поздравляя с успехом новой его актрисы.
Князь Гурий Львович сидел, широко улыбаясь. Он был доволен общими знаками одобрения, но все же искоса посматривал на Труворова, которого до сих пор не мог еще удивить ничем, и ждал, что выразит тот по поводу Маши.
Никита Игнатьевич смотрел на Машу и думал о Гурлове.
— Очень хороша! — произнес он вслух, отвечая своим мыслям и одобряя Машу именно как невесту симпатичного ему молодого человека.
— Ага! — подхватил Каравай-Батынский. — Говорите: «Очень хороша»? Небось, таких актрис у вашего батюшки не было, не было, а?
— Ну, что там актрисы у батюшки, ну, какие там актрисы!.. — протянул Труворов и отмахнул жужжавшую возле него муху.
О мнении Чаковнина, который сидел нахмуренный, князь не беспокоился и остался вполне удовлетворен тем, что Труворов признал несомненное превосходство Маши над актрисами своего отца.
Опустился занавес, но публика все еще неистовствовала и хлопала, и кричала, и махала платками, обернувшись к ложе князя.
Никогда еще не было таких оваций в его театре. Он видел, что сегодня они искренни и потому особенно шумны. Он остался отменно доволен представлением и повел гостей из театра в столовую, где был приготовлен роскошный ужин.
На установленном цветами, хрусталем и золотою посудою огромном столе, накрытом посредине столовой, лежал на золотом блюде целый ягненок с вызолоченными рожками и копытцами. Четыре большие кабана высились по углам, искусно подстроенные на четырех ногах, с колбасами, кусками ветчины и поросят внутри. Они изображали четыре времени года.
Двенадцать оленей с золочеными рогами, зажаренные тоже целиком и начиненные разною дичью, изображали двенадцать месяцев года. Вокруг всего этого стола, по числу дней в году, триста шестьдесят пять малых паштетов и пирогов, сладких, украшенных глазурью и сушеными фруктами.
Четыре стопы серебряные, с золотыми гербами князя, соответствовали тоже четырем временам года. Белое холодное рейнское изображало зиму; чуть тепленькое нежное красное — весну; мадера — горячее лето, а старое золотистое венгерское — осень.
Двенадцать золотых больших кубков, наполненных разного сорта медами, служили олицетворением двенадцати месяцев. На крышке каждого кубка красовался камень, свойственный каждому месяцу. Пятьдесят два маленьких серебряных бочонка — пятьдесят две недели в году — были наполнены водкой.
Кроме того, по приказанию расходившегося князя, уж очень довольного сегодняшним вечером, было подано триста шестьдесят пять бутылок шампанского. Он вспомнил, что соответственно числу дней в году не было выставлено ничего из вина, и велел подать шампанского.
Кроме малых паштетов, на столе стояли два больших. Когда разрезали один, из него вылетело множество живых птиц, рассеявшихся по украшавшим стены столовой деревьям.
Из другого паштета вышел карлик, одетый гномом, с бутылкой векового итальянского вина, и стал ходить по столу и наливать желающим это вино в рюмки.
Так угощал своих гостей князь Гурий Львович.
XXIII
В самый разгар пира Каравай-Батынский вспомнил о косвенном, так сказать, виновнике сегодняшнего торжества — парикмахере, выпустившем в новой, невиданной доселе прическе красивую актрису Машу и таким образом немало способствовавшем ее успеху.
— А позвать сюда парикмахера Прошку! — крикнул он зычным голосом, и сейчас же несколько слуг бросились исполнять его приказание.
Вошел Прохор Саввич в своем скромном темном суконном кафтане, и странною показалась его высокая, стройная фигура среди подгулявших гостей, шумевших в столовой.
— А, это ты! — обернулся к нему князь со своего кресла. — Поди сюда!
Прохор Саввич приблизился.
Князь налил шампанским стоявший пред ним разноцветного стекла старинный венецианский кубок до краев и протянул его Прохору Саввичу.
— Жалую тебя этим кубком, — проговорил он, — выпей его за наше здоровье! Ты угодил нам! И проси всего, что ты хочешь, — вдруг, расходившись, добавил он: — Все исполню, что попросишь… Вот как у нас! — и он размахнул кубком так, что пенившееся шампанское плеснуло на пол.
Среди гостей говор смолк. Все слышали слова опьяненного успехом и вином князя и притаились в ожидании, чего попросит счастливчик, которому на долю выпала такая удача. И каждый прикинул мысленно, чего бы сам он попросил, если бы был теперь на месте парикмахера.
Многие с любопытством ждали, что будет, если этот парикмахер спросит себе чересчур уж многого от князя. Ведь границ ему не положено — значит, он может спрашивать, сколько угодно, а как тогда князь выйдет из своего положения? Ему или придется нарушить слово, или, может быть, разориться.
«Он попросит сейчас, чтобы это животное отпустило на волю Машу — тогда дело Гурлова в шляпе», — подумал Чаковнин.
Но Прохор Саввич грустно поглядел на князя, покачал головою и проговорил:
— Если ты желаешь исполнить все, чего бы я ни попросил у тебя, то не заставляй меня пить этот кубок. Вот в чем моя просьба. Я не могу пить вино. Так ты ее и исполни — не заставляй меня пить…
Князь поднял брови, поставил кубок на стол, вперил в него взор и задумался.
— Постой, как же это так? — заговорил он, помолчав и подумав. — Я тебе говорю: «Выпей кубок, тогда я исполню всякую твою просьбу», а ты, не выпив кубка, просишь меня, чтобы я не заставлял тебя пить его. Для того, чтобы я исполнил твою просьбу, нужно, чтобы ты выпил кубок, такое я тебе поставил условие, а вместе с тем просьба твоя — именно не пить кубка; как же это будет, и как же я должен теперь поступить?