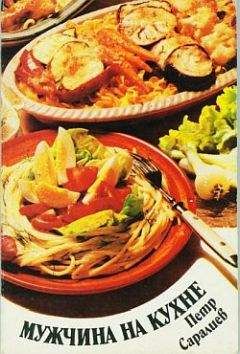Михаил Салтыков-Щедрин - Том 15. Книга 1. Современная идиллия
— Не горячись, сделай милость. Во-первых, пользуясь стесненным положением жены Балалайкина, можно ее уговорить, за приличное вознаграждение, на формальный развод; во-вторых, ежели это не удастся, можно убедить Балалайку жениться и при живой жене. Одним словом, необходимо прежде всего твердо установить цель: во что бы ни стало женить Балалайку на «штучке» купца Парамонова — и затем мужественно идти к осуществлению этой цели.
Волей-неволей, но пришлось согласиться с Глумовым. Немедленно начертали мы план кампании и на другой же день приступили к его выполнению, то есть отправились в Кузьмино. Однако ж и тут полученные на первых порах сведения были такого рода, что никакого практического результата извлечь из них было невозможно. А именно, оказалось:
1) Что Балалайкина жена по уши влюблена в своего мужа и ни о каких предложениях (Глумов двадцать пять рублей давал) относительно устройства приличной «обстановки» в видах расторжения брака — слышать не хочет.
2) Что Балалайкин сохраняет свой брак в большой тайне. Никто в семье не знает, что он адвокат, получающий значительный доход от поздравительных стихов, сочиняемых клубным швейцарам. И жена, и старая бабушка убеждены, что он служит в артели посыльных.
3) Что Балалайкин наезжает в Кузьмино один раз в не делю, по субботам, всегда в полной парадной форме посыльного и непременно на лихаче. Тогда в семье бывает ликованье, потому что Балалайкин привозит дочерям пряников, жене — моченой груши, а старой бабушке — штоф померанцевой водки. Все семейные твердо уверены, что это — гостинцы ворованные.
— Он-то говорит, что купцы дают, — сказала нам старуха-бабушка, — да уж где, чай!
А дочка присовокупила:
— И то сказать, трудно в ихнем сословии без греха прожить! Цельный день по кухням да по лавкам шляются, то видят, другое видят — как тут себя уберечи!
Все это было далеко не поощрительно, однако Глумов и тут надежды не терял.
— И прекрасно, — сказал он, — пускай себе ломается, и без нее обойдемся! Теперь, по крайней мере, путаться не станем, а прямо будем бить на двоеженство!
Словом сказать, опасность заставила нас окончательно позабыть, что нам предстояло только «годить», и по уши по грузила нас в самую гущу благонамеренной действительности. Мы вполне искренно принялись хлопотать, изворачиваться и вообще производить все те акты, с которыми сопрягается безопасное плаванье по житейскому морю.
Через несколько дней, часу в двенадцатом утра, мы отправились в Фонарный переулок, и так как дом Зондермана был нам знаком с юных лет, то отыскать квартиру Балалайкина не составило никакого труда. Признаюсь, сердце мое сильно дрогнуло, когда мы подошли к двери, на которой была прибита дощечка с надписью: Balalaikine, avocat. Увы! в былое время тут жила Дарья Семеновна Кубарева (в просторечии Кубариха) с шестью молоденькими и прехорошенькими воспитанницами, которые называли ее мамашей.
Дарья Семеновна была вдова учителя латинского языка, который, к несчастью, смешивал герундиум с супинумом* и за это был предан, по распоряжению начальства, суду. А так как он умер, не успев очистить себя от обвинений, то постигшая его невзгода косвенным образом отразилась и на его вдове: ей было отказано в пенсии. Оставшись без всяких средств к существованию, Дарья Семеновна понадеялась было, что ей удастся продать латинскую грамматику, которую издал ее муж и бесчисленные экземпляры которой, в ожидании судебного решения, украшали ее квартиру, но, увы! судьба и тут не оказалась к ней благосклонною. Решение суда не заставило себя долго ждать, но в нем было сказано: «Хотя учителя Кубарева за распространение в юношестве превратных понятий о супинах и герундиях, а равно и за потрясение основ латинской грамматики и следовало бы сослать на жительство в места не столь отдаленные, но так как он, состоя под судом, умре, то суждение о личности его прекратить, а сочиненную им латинскую грамматику сжечь в присутствии латинских учителей обеих столиц». Погоревала-погоревала бедная вдова, посоветовалась с добрыми людьми — и вдруг нашлась. Открыла пансион для девиц, но, разумеется, без древних языков.
Дарья Семеновна была женщина веселая и хлебосолка, а потому педагогическая часть в ее пансионе была несколько слаба. Учили больше хорошим манерам и светскому обращению. Каждый вечер до поздних петухов стоял в ее квартире, как говорится, дым коромыслом. Играл тапер на стареньких клавикордах; молодые люди танцевали, курили папиросы, угощались пивом, водкой, а изредка и шампанским. По временам случались и драки, но хозяйка обладала на этот счет таким тактом, что подравшиеся при первом намеке на будочника немедленно унимались и посылали за пивом. Только по субботам и накануне больших праздников дверь квартиры учительницы Кубаревой отпиралась лишь для самых близких знакомых. В эти вечера в комнатах зажигались лампадки, воспитанницы умилялись и вздыхали, а Дарья Семеновна набожно говорила:
— Весельем людским живу… а бога помню!
Лет пятнадцать тому назад Дарья Семеновна умерла, от праздновав двадцатипятилетие своей педагогической деятельности, хотя и без древних языков. Скончалась старушка тихо, в большом кресле на колесах, с которого в последнее время не вставала; скончалась под звуки тапера, проводившие ее в иной мир. Я помню: мы беспечно танцевали, в одном углу хлопнула пробка, в другом — раздалась пощечина; смотрим, а ее уж и нет! Говорят, перед смертью она получила дар прозорливства и предсказала, что в квартире ее поселится Балалайкин.
Весьма естественно, что прежде, нежели позвонить, мы остановились перед этою дверью, подавленные целым роем воспоминаний.
— Тут… было? — первый прервал молчание Глумов.
— Да, мой друг… тут!
— Тапера, Ивана Иваныча, помнишь?
— Как живой и теперь стоит передо мной!
— Представь себе! ведь он отец семейства был… Я у него детей крестил, а Кессених кумой была, и, как сейчас помню, он нас в ту пору шмандкухеном* угощал.
— А Стрекозу помнишь?*
— Еще бы! первый мазурист на вечерах у Дарьи Семеновны был! здесь, в этой квартире, и воспитание получил! А теперь, поди-тко, тайный советник, в комиссиях заседает — рукой до него не достать!
— Вообрази: встречаю я его на днях на Невском, и как раз мне Кубариха на память пришла: помните? говорю. А он мне вдруг стихами:
Вельможу должны украшать*
Ум здравый, сердце просвещенно…*
И об Кубарихе ни полслова — вот он нынче как об себе полагает!
— Да, брат, многие из школы Дарьи Семеновны вышли, которые теперь… Только вот мы с тобой…
Я машинально протянул руку и подавил пуговку электрического звонка. Раздался какой-то унылый, дребезжащий звон, совсем не тот веселый, победный, светлый, который раздавался здесь когда-то. Один из лжесвидетелей, о которых упоминалось в справке, добытой из 2-й Адмиралтейской части, отпер нам дверь и сказал, что нам придется подождать, потому что господин Балалайкин занят в эту минуту с клиентами.
Мы вошли в приемную комнату, и сердца наши тоскливо сжались. Да, именно в этой угловой комнате, выходящей окнами и на Фонарный переулок и на Екатериновку, она и скончалась, добрая, незабвенная Кубариха! Вот тут, у этой стены, стояли старые, разбитые клавикорды; вдоль прочих стен расставлены были стулья и диваны, обитые какой-то подлой, запятнанной материей; по углам помещались столики и établissements[7], за которыми лилось пиво; посредине — мы танцевали. Картины из прошлого, одна за другой, совершенно живые, так и метались перед моим умственным оком.
— Дарья Семеновна! тут ли вы? — воскликнул я, совсем забывшись под наплывом воспоминаний.
Увы! ни один звук не ответил на мой сердечный вопль. Просторная приемная комната, в которой мы находились, смотрела холодно и безучастно, и убранство ее отличалось строгою простотой, которая совсем не согласовалась с профессией устройства предварительных обстановок по бракоразводным делам. Признаюсь, приличность балалайкинской обстановки даже поразила меня. Я ожидал увидеть нечто вроде квартиры средней руки кокотки — и вдруг очутился в помещении скромного служителя Фемиды, понимающего, что, чем меньше будет в его квартире драк, тем тверже установится его репутация как серьезного адвоката. Посредине стоял дубовый стол, на котором лежали, для увеселения клиентов, избранные сочинения Белло́ в русском переводе; вдоль трех стен расставлены были стулья из цельного дуба с высокими резными спинками, а четвертая была занята громадным библиотечным шкафом, в котором, впрочем, не было иных книг, кроме «Полного собрания законов Российской империи». Очевидно, что Балалайкин импонировал этою комнатою, хотел поразить ею воображение клиента и в то же время намекнуть, что всякое оскорбление действием будет неуклонно преследуемо на точном основании тех самых законов, которые стоят вот в этом шкафу. Ничего лишнего, мишурного, напоминающего о прелюбодеянии и лжесвидетельстве, не бросалось в глаза, только в углу стоял довольно подержанный полурояль, от которого несколько отдавало Дарьей Семеновной. Рояль этот, как я узнал после, был подарен Балалайкину одним не состоятельным должником в благодарность засодействие к сокрытию имущества, и Балалайкин, в свободное от лжесвидетельств время, подбирал на нем музыку куплетов, сочиняемых им для театра Егарева. Тем не менее этот рояль так обрадовал меня, что я подбежал к нему, и если б не удержал меня Глумов, то, наверное, сыграл бы первую фигуру кадрили на мотив «чижик! чижик! где ты был?», которая в дни моей молодости так часто оглашала эти стены.