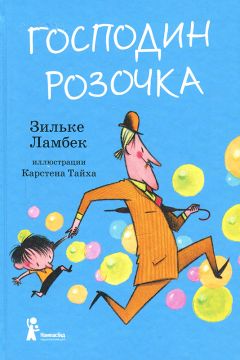Александр Герцен - Том 1. Произведения 1829-1841 годов
Огонь раздирает внутренности горы, перебегая и клокоча в подземных проходах, просится наружу – вырвался! Из огромного жерла стремились потоки раскаленного металла; изгибаясь, как змеи, стекали они в реку, шипя, как змеи, погружались в волны ее. Дивное зрелище! С одной стороны луна, девственница луна, созданье северное, мечтательное, религиозное, робкое, стыдливо опустя глаза, как голубоокая дева, и едва освещая землю, от которой, казалось, она хотела оторваться, но к которой ее приковала любовь; с другой – бешеный пламень, быстрый, изгибистый, с свистом и треском бросался во все стороны, с каким-то буйным торжеством разливался и с упоеньем уничтожал все встречавшееся, будто все ему соперник, будто он мстит за кровавую обиду. И как вполне пил он месть, как радостно вспыхивал, уничтожив своего врага, – и сам после умирал на его трупе. Огонь, переходя все цвета от синего до пунцового, обливал окрестности своим неверным, трепетным цветом крови, и все было в крови, и вся природа дрожала, как Каин, как убийца. Кровавое небо, кровавая река, все кровавое, океан крови! Какое-то счастие, казалось, наполняло грудь горы, с гордостью смотрела она на обширный круг деятельности, и новые потоки пламени извергались из нее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
…Тихий ветер, пробираясь между листьями ближнего леса и склоняя перед собой ветви, освежал природу; небо с одной стороны было покрыто тучею, с другой – чисто и, будучи над головою яркосинего цвета, бледнело к небосклону и у небосклона рделось, как ланиты девы. Звезда утра, Венера, игривая, страстная, блистала тысячью цветами и, наконец, потонула в море огня и света. Выкатилось солнце и озарило еще дымящуюся, непростывшую гору, с всегдашним презрительным равнодушием своим ко всему земному, которому только мимоходом дает жизнь… Дерево не существует, огненные объятия сожгли его; каленая атмосфера пламенной любви задушила его. Дерево севера, дерево неба не могло сдружиться с огнем земным.
С тех пор мрачна и одинока гора и еще тяжелее давит горизонт; редко, редко, в час ночной, она, подавленная глубокой думой, клубом валит дым, и середь его иногда взовьется, с быстротою молнии, струистый огонь, блеснет и, испугавшись воли, потухнет. Так-то черные очи итальянки, вспомнив былую страстную любовь, блеснут, и след их, огненный след, надолго остается, выжигается в сердце, и опять грустны темные очи. И опять тиха гора, опять холодно, снег веет сомнением, и пепел покрывает главу горы… но внутри ее огонь не тухнет, он жжет ее самоё, и гора как будто скрежещет зубами и адски хохочет.
Угрюмы и дики окрестности, и река свирепая яростно подмывает гору.
<3 августа 1833 г.>
<Программа и план издания журнала>*
Следить за человечеством в главнейших фазах его развития, для сего возвращаться иногда к былому, объяснить некоторые мгновения дивной биографии рода человеческого и из нее вывести свое собственное положение, обратить внимание на свои надежды.
Вот цель журнала, но для достижения к ней необходим план, раскроем его.
* * *Человечество развивается в двух направлениях – в мире гражданском и в мире эстетическом, в мире дела и в мире слова, но сии две отрасли, подобно тем потокам, омывавшим светлые долины рая, истекли из одного источника – из места создания человека, и втекают в один святой Гангес. Посему-то столь нераздельное представляет нам литература и политический быт. Гражданское состояние есть воплощенное слово, и обратно, литература, как слова народа, есть выражение его быта. Но изучение слова и деяний человека еще недостаточно; человек – часть природы, он ее принадлежность, она его обусловливает, она подчиняет его своим законам; следственно, чтоб понять человека, надлежит понять природу. Из сих соображений для достижения предполагаемой цели журнала выходит, что он должен состоять из двух частей:
1) Исторической,
2) Естествоведательной.
Займемся первою частью. Предмет истории – жизнь человечества. Жизнь есть не что иное, как процесс возвышения формы к идее, и, следственно, два элемента уже обнаруживаются. Идея – философия истории и явление – факт требуют себе по отделению, наконец, и самый процесс, т. е. восхождение от формы к идее. Параллельно с историею идет и литература, и здесь теория – эстетика, и часть практическая – разборы и отрывки.
Естествоведение должно взойти самым общим образом, собственно, философия естествоведения.
Но каким же образом журнал может выполнить собою строгую систему, единственно возможную в книге, ибо книга есть картина, где один предмет, а журнал – раёк, где быстро один вид заменяется другим, где Ватикан возле Ивана Великого и колонна Вандомская возле колонны петербургской. Но разве нельзя в райке сделать связь, разве нельзя все картины взять с одной точки зрения? Разве не может существовать внутренняя связь, когда не существует внешней? Разве исторические трагедии Шекспира не составляют стройной генеалогии из жизни Англии, не представляются ли они вам сценами из огромной поэмы в его мыслях? «Вильгельм Мейстер» не составлен ли из вырванных листов из рапсодии, но какое высокое единство в нем. Журнал, в коем есть требование на эту стройность, должен ясно определить свое profession de foi[56], это будет идея его. Потом, согласно этому profession de foi, представлять этюды о сказанных предметах, и эти этюды, наконец, представят точки опоры, на коих может воздвигнуться целое здание. Обращаемся к самому плану.
В части историко-литературной, сверх разделения оной на историческую и литературную, взойдут следующие деления: история как наука, история повествовательная (т. е. отрывки оригинальные или переводные о важнейших эпохах истории), юридико-историческая часть и критическая, – в сем отделении matières primitives[57] истории, тут лаборатория, в которой разлагают жизнь человечества и восстановляют ее. Наконец, еще отделение займет статистическое обозрение государств как последнее слово, как halte[58] истории. Литературная часть разделится на отделения теоретическое и практическое; во втором – разборы знаменитейших писателей всех времен, разборы целых литератур, отрывки из иностранных авторов всех времен. К сей части, как прибавление, могут поместиться критики на современную литературу отечественную и стихи.
В естествоведении все внимание должно обратить на геологические, физиологические и психологические исследования.
Александр Герцен.
ПЛАН ЖУРНАЛАА. История
1) Философия истории / Огарев, Сазонов, Герцен
2) Исторические отрывки, оригинальные и / Лахтин, Сатин, Кетчер,
Переводные / Герцен
3) Историко-юридическое отделение
4) Статистическое отделение / Лахтин, Герцен, Сазонов
5) Археология, критика etc.
В. Литература.
1) Теория / Огарев
2) Отрывки переводные / Сатин, Кетчер etc.
3) Разборы { α) иностранных творен<ий>
{ β) отечественных } Все
С. Естествознание
Философия природы
Прибавление
Поэзия / Огарев, Сатин
Критика
Согласен участвовать в сем журнале:
Александр Герцен
Николай Сазонов
Николай Сатин
17 февраля 1834 года.
Гофман*
(Н. П. О<ГАРЕВ>У)
…Die Künstler und die Räuber, das
Ist eine Art der Leute. Beide meiden
Den breiten staubigen Weg des Alltagslebens.
Oehlenschläger. «Correggio»[59].Всякий божий день являлся поздно вечером какой-то человек в один винный погреб в Берлине; пил одну бутылку за другой и сидел до рассвета. Но не воображайте обыкновенного пьяницу; нет! Чем более он пил, тем выше парила его фантазия, тем ярче, тем пламеннее изливался юмор на все окружающее, тем обильнее вспыхивали остроты. Его странности, постоянство посещений, его литературная и музыкальная слава привлекали целый круг обожателей в питейный дом, и когда иностранец приезжал в Берлин, его вели к Люттеру и Вегнеру, показывали непременного члена и говорили: «Вот наш сумасбродный Гофман». Посмотрим на эту жизнь, оканчивающуюся питейным домом. Жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям, но не жизнь германского автора, – для них злой Гейне выдумал алгебраическую формулу: «Родился от бедных родителей, учился теологии, но почувствовал другое призвание, тщательно занимался древними языками, писал, был беден, жил уроками и перед смертью получил место в такой-то гимназии или в таком-то университете». Но «есть люди, подобные деньгам, на которых чеканится одно и то же изображение; другие похожи на медали, выбиваемые для частного случая»[60]; и к последним-то принадлежал сказавший эти слова Гофман. Его жизнь нисколько не была похожа на прозябение, она самая странная, самая разнообразная из всех его новостей, или, лучше, в ней-то зародыш всех его фантастических сочинений.