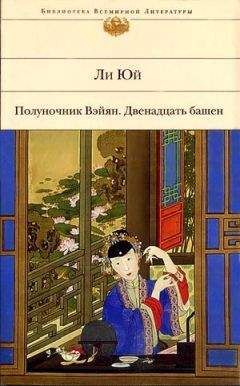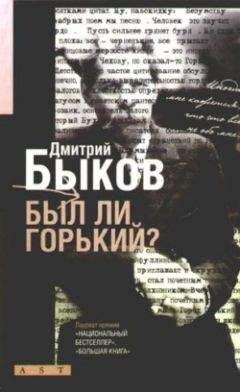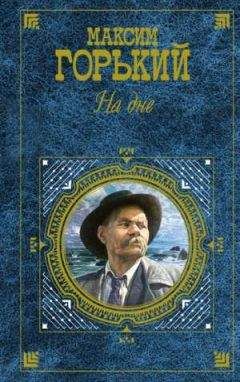Ион Друцэ - Избранное в 2-х томах (Том 1, Повести и рассказы)
Еще не вся прислуга Ясной Поляны знала об уходе барина, еще сама Софья Андреевна ничего об этом не ведала, а телеграмма об уходе Толстого уже лежала на столе главы правительства Столыпина. Из Петербурга немедленно последовал приказ, объявляющий боевую тревогу, и три генерал-губернатора, на чьих территориях разыгрывался последний акт яснополянской драмы, вступили в беспрерывную телеграфную связь меж собой. Что только не выстукивал телеграф в те дни, какие только запросы не летели из сердца России в центр и обратно! Ну, например, как быть с тем, что Толстой покинул Ясную Поляну, не прихватив с собой паспорта? Ибо, путешествуя без документа, Толстой таким образом нарушал установленный паспортный режим. Были выдвинуты две альтернативы: либо разрешить беспаспортному старцу продолжить путешествие, либо вернуть его силой на постоянное местожительство. После долгих консультаций рязанский губернатор разрешил в виде исключения проживание на станции Астапово больному беспаспортному писателю.
Другой не менее важный вопрос: кто дал право?! Генерал Львов запрашивает телеграфно ротмистра Савицкого, имевшего постоянное пребывание на станции Астапово: "Кем разрешено Толстому пребывание казенном станционном помещении, не предназначенном для помещения больных? Губернатор требует принять меры отправления лечебное заведение или место постоянного жительства". Ротмистр лопочет в ответ: болен же, а другого помещения, кроме казенной квартиры, нет...
На третий день болезни Толстого губернаторы уже стали шифровать свои телеграммы. Калужский губернатор запрашивает рязанского: 252 4325 8301 319 246 427 64 7563852... После революции, при расшифровке, эти цифры обрели следующий смысл: "Если нужна помощь для поддержания порядка, могу выслать городовых и стражников". В ответ последовало уже без шифра: "Ждем в Астапово с оружием и патронами..."
Сначала небольшие подразделения, а затем целые полки стали подтягиваться к станции Астапово. Они стояли в близлежащих населенных пунктах, готовые, если вдруг глубокая боль всколыхнет сердце России и она снимется с места, чтобы проститься с останками этого великого старца, встать на ее пути.
А в это время Лев Николаевич лежал в домике начальника станции, умиляя всех своей послушностью и аккуратностью. Сам себе мерил температуру, вел учет принятых лекарств. Эта его доброта прямо нервировала врачей, мешая им хладнокровно исполнять свои обязанности. После первой же ночи, чуть отдохнув, он подозвал к себе зареванную Александру Львовну, чтобы спросить:
- Ну что, Саша?
- Да что же, нехорошо вот...
- Не унывай, - сказал Лев Николаевич, - в мире много хороших людей, а вы все Лев да Лев...
Температура то падала, то снова поднималась к сорока градусам. Врачи установили двустороннее воспаление легких. Съехалась семья, приехал Чертков, на станции дежурили корреспонденты крупнейших газет. Однажды в бреду Толстой заметил под головой свою яснополянскую подушку и спросил, как она попала на станцию Астапово. От него скрывали, что съехалась семья, чтобы излишне не волновать его и без того слабое сердце, но из-за подушки пришлось сказать, что приехала Татьяна Львовна. Он попросил, чтобы она пришла к нему, и, когда она вошла, он сказал восхищенно:
- Какая ты сегодня нарядная, авантажная...
А между тем состояние его ухудшалось с каждым часом. Пришлось вызвать из Москвы еще двух профессоров - Шуровского и Усова, и телеграфный центр, установленный по распоряжению правительства на станции Астапово, круглосуточно отстукивал во все концы мира: Толстой жив, Толстой жив, Толстой жив. Пульс, дыхание, температура. Подписи - Маковицкий, Никитин, Шуровский, Усов, Беркенгейм. Через два часа новый бюллетень, и опять новая серия телеграмм: Толстой жив. Пульс, дыхание, температура. И опять подписи знаменитых профессоров, а между тем всему миру было ясно, что жизнь Толстого угасает.
Стоит глубокая, холодная ночь, последняя ночь Толстого. Ему в жару, должно быть, привиделся Делир, он слышит топот его копыт, он хочет осадить коня, направить на верный путь, но его милый и послушный Делир впервые в жизни сорвался, несет старого графа бог знает куда, и Толстой стонет, мечется на маленькой железной кровати... В уголке за столиком сидит Александра Львовна. Вдруг Лев Николаевич утих. Эта тишина обманула ее. Она начала подремывать, как вдруг в ужасе проснулась. Больной, спустив ноги с кровати, пытался встать, и она кинулась к нему:
- Да нет же, врачи запретили тебе подниматься с постели.
- Мне надо уйти. Мне непременно надо уйти.
Лев Николаевич стоит на слабых ногах, отчитывая дочь:
- Ты не смеешь, ты не должна меня силой удерживать...
В домике поднялся переполох. Прибежали Чертков, доктор Никитин, Душан Петрович и Татьяна Львовна. С трудом уложили больного, впрыснули камфару. Лев Николаевич на время утих, и когда все решили, что он уснул, и начали тихо выходить, он вдруг поднял слабую руку. Подозвал Черткова к себе, попросил еле слышным голосом:
- Голубчик, я уже два дня ничего не правлю, и накопилось много незавершенной работы. Как бы мне выправить рукопись...
Чертков, наклонившись, спросил:
- Какую рукопись вы имеете в виду?
Толстой передохнул, потом сказал:
- Все равно какую. Я ведь последние два дня не переставая диктую.
Чертков подошел к Александре Львовне. Та подняла руки вверх, доказывая, что ничего нет. Прошептала:
- Маленький дневник у него под подушкой, а остальное мы не записывали, остальное было в бреду.
Толстой спешил, у него оставалось мало времени.
- Ну прочтите же невыправленный текст.
И поскольку Чертков замешкался что-то, Лев Николаевич сказал:
- Вот ведь какой милый человек, а читать не хочет...
Чертков заметался но комнате. Александра Львовна прошептала:
- Есть, правда, набросок к статье об отмене смертной казни, но я как-то не решаюсь дать его на правку - это будет неуместным.
Чертков вырвал у нее страницы, пробежал их. Спросил:
- Это когда было продиктовано?
- Позавчера. В поезде.
Он сел у изголовья больного и принялся читать:
- "В наше время для борьбы со смертной казнью нужно не проламывание открытых дверей, не выражение негодования против безнравственности, жестокости и бессмысленности смертной казни. Нужно..."
Чертков тихо спросил Маковицкого:
- Можно прочесть все до конца?
Маковицкий прощупал пульс, ничего не ответил, и Чертков, выждав паузу, продолжает чтение:
- "Как прекрасно говорит Кант, есть такие заблуждения, которые нельзя опровергнуть. Нужно только сообщить заблуждающемуся уму такие знания, которые просветят его, тогда заблуждение исчезнет само собою. И потому, если уж бороться со смертной казнью, то бороться только тем, чтобы внушить людям, в особенности сильным мира сего, то знание, которое может одно освободить их от заблуждений".
Чертков умолк. Наступила пауза. Лев Николаевич поднял руку и попросил;
- Еще. До конца.
Чертков опять принялся читать:
- "Знаю, что дело это нелегкое. Наемщики и одобрители палачей, инстинктом самосохранения чувствуя, что знания эти сделают для них невозможным удержание того положения, которым они дорожат, и потому не только сами не усвоят эти знания, но всеми средствами власти, насилия, коварства и жестокости постараются скрыть от людей эти знания, извращая их и подвергая распространителей знаний всякого рода лишениям и страданиям".
Хотя Чертков читал внимательно, не отрывая глаз от листа, какое-то чувство подсказало ему, что больному плохо. Он отложил лист, наклонился над больным. Рука Льва Николаевича, мелко вздрагивая, бежала по одеялу. Не успев до конца дослушать свою последнюю статью, он спешил ее править. Он всю жизнь правил, неисчислимое количество раз правил - инстинкт совершенствования своего труда был самой глубокой жизненной потребностью этого величайшего из художников.
Маковицкий сосчитал пульс, послушал дыхание и, обычно спокойный, вдруг крикнул на весь дом:
- Камфару! Морфий!!
Когда рано утром рядом с телеграфным аппаратом лег первый лист с печальным известием о смерти Толстого, усталый от бессонной ночи телеграфист вздрогнул. Потом встал со стула. Попятился, прижался к стенке.
- Нет, я не смогу, я не смею этого сделать. Я трое суток стучал ключом, что он жив, весь мир на меня надеялся, и я не смогу им это сообщить...
И он долго плакал у стены, потом, взяв себя в руки, вернулся к аппарату, отстучал позывные, но рука сползла с ключа, и он сказал тихо:
- Нет, не могу. Меня Россия проклянет, у меня отсохнут руки. Разбудите сменщика.
А между тем дожди прошли, над Россией стояло прекрасное, солнечное утро. В полдень, когда на стол царя легло донесение о смерти Льва Николаевича, император вывел по обыкновению в левом углу: "Толстой был великим художником..." Потом, подумав, добавил: "В остальном пусть бог ему будет судьей". Он не любил и не понимал своего великого соотечественника, и только семь лет спустя, будучи в тобольской ссылке, он впервые раскрыл том "Войны и мира". Но, увы, было поздно. И для войны было поздно, и тем более для мира...