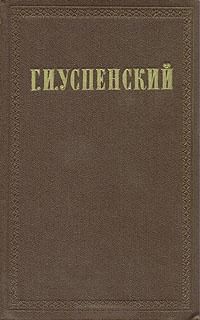Глеб Успенский - Том 1. Нравы Растеряевой улицы
Деревенские деды его рисовались в детском воображении такими же страшными гигантами и силачами, образы которых с особенною любовью очерчивают старушечьи сказки. Что-то невероятно дикое было в этих мужиках, всю жизнь возившихся с сохою и бороной и не имевших поэтому никакого случая выказать своих природных сил, кроме полной возможности ошарашить народ каким-нибудь невероятным подвигом своих невероятных мускулов. Из такой породы выходил и Медников. Но голова его, до тонкостей успевшая уже постигнуть кратчайшие пути к разрушению галочьих гнезд на колокольне, имела возможность не остановиться на том скудном материале для соображения, который дает обстановка сельской жизни: его отдали в училище. Новое место и новое дело заняло его.
— Сначала, — рассказывал Медников, — я прилежно и хорошо учился… Попался мне товарищ Лукин. Заманил он меня в лодыжки играть. Что-то понравились мне лодыжки эти, — только совсем бросил я науки… Отдали Лукина потом в солдаты. Остался один, думал-думал — нету мне товарища! Оробел; принялся опять учиться. Повинился. Перевели меня в реторику, — замечаю я в книге одной слова: «Самая высокая премудрость — суета». По этим словам я взял и исключился… Хотели меня отпороть — не исключайся. Услыхал об этом, перестал в класс ходить, чтоб не отпороли. Прихожу домой пешком. Зачем? Объявляю: так и так — исключился… Полились слезы. Самому мне стало горько. Повалился отцу в ноги, — в саду было дело, плачу и говорю: «Батюшка! Помилосердуй меня! Я человек… Я заленился… Прости меня. Ежели хочешь — то накажи». Простил отец. «Что же я с тобой буду делать! Куда я тебя дену?» — «Батюшка, Никита Петрович! Отвезите меня ко владыке. Куда я гожусь: в солдаты — в солдаты, куда хотите, туда и киньте…»
Много жизни было в нем. В эту пору попалась ему молодая дворовая девушка, побежденная сразу одним взглядом его огненных глаз. Пошло дело по-своему.
— …Потащила в сад, — рассказывал Никитич. — Деревья большущие — ночь, духота, и туча висит… Шли, шли — так и кидается! так и кидается!.. «Отвяжись!» — «Голубчик! Милый мой!» — «Отстань. Поди прочь!.. Уйду…» Главная досада — сама; терпеть не могу, — говорю: «Ни за что на свете!..» — «Утоплюсь!» — «Топись, чорт с тобой…» А тут сажелка… Гляжу, — что ж бы ты думал? по эстих пор в воду!.. Э-э, думаю, пожалуй чего доброго! Бросился — вытащил. Усадил на лавку, говорю; «Что ты, ошалела?» Смотрит на меня, как сумасшедшая… Ей-богу, даже я испугался; что с ней такое? Между, прочим не сдаюсь… «Изобью!» Молчу. «Зубами разорву». Молчу. Принялась кусать меня, за волосы, бить, и вдруг заплакала… Да как ведь залилась-то! Белый свет зачинался, заря… «Отведи меня, говорит, Никитич, домой…» Еле движется… Жалко стало…
«Дня через два встречаю: глаза в землю, как убитая… Подошел, взял за руку, — повел… Думаю: вот теперь моя! Хотел тоже, как добрые люди, честь-честью, самовар раздобыл, думаю: угощу… Во флигеле каморка была, забрались туда. Оконце махонькое, заварил я этот самовар, как попер оттуда, братцы мои, дым. Ни дохнуть! Слышу, на дворе кто-то орет: что за дым? кто такой? Думаю: провались ты и с самоваром совсем, толкнул его ногой под лавку… Пойдем! И пошли мы в рощу…»
И любил Никитич хорошую девушку сильно, только все-таки по-своему любил…
— Замечаю я, — продолжал Никитич, — будто она поглядывает маленько. «Сма-атри», говорю… И этому молодцу тоже внушаю: показываю кулак, говорю: «Видел?» — «Как не видать…» — «То-то, полегче бы…» Тем временем, однако, слышу, галдит народ: так и так, присматривай… «Э-э, думаю, милая…» Выбрал время, вызываю: «Пойдем!» — «Пойдем!..» Повел ее в сад. Идем; разговариваю с ней так-то; все дальше да дальше… Отвел в самый зад, — свистнул… Так она и зашаталась, потому, как только свистнул я, — сейчас из кустов человек пять народу (братию эту я нарочно для секуцыи припас, с прутьями). «Ты что же, говорю, любезная, так-то?.. Ребята! Ну-ко!» Сейчас ее обземь… верите ли, то есть так жутко стало!.. А она как мертвая… И сам-то я, признаться, ошалел… Но, однако же, перемогся, и, сказать по чистой совести, взодрали мы ее препорядочно!..
Но на этой дороге деревенского «лихача-кудрявича» смиренным глазам отца он казался каким-то «разбойником», «живодером». Оставлять дело в таком виде было невозможно, из опасения нажить уголовщину; нужно было прибегнуть за спасением к начальству, вследствие чего скоро повезли Никитича ко владыке. Дал ему владыко «Апостол» почитать, на пробу — знает ли что? и когда Никитич дернул своим деревенским баском — «брате!», то владыко только дрогнул всем телом от его ужасного голоса и, ласково сообщив при конце беседы, что нужно читать не брате, а во дни оны, — определил его в певчие. Когда известили об этом решении Никитича, он сказал: «Куда мне… У вас бочки, а я капли в рот не беру». — «Ну это, брат, сочинение», — отвечали ему. Не верилось Никитичу, что и он будет этой бочкой, а пришлось быть. И случилось это незаметно. Отравил он свое тело самым приятным образом. Жизнь певчего пришлась ему как раз по натуре, которая требовала в это время самой полной жизни, такой жизни, чтобы каждая жилка жила и трепетала жизнью, каждая крупинка крови не дремала и гуляла живя. Голос Никитича дал ему такую (покупную, впрочем) жизнь. Город Т. скоро сделал его своим любимцем. Населенный удалым мастеровым народом, город этот жил по-старому, стараясь находить удовольствия и наслаждения свои по своей натуре; и вот между страстною любовью к кулачным и петушиным боям, между голубиною охотою и соперничеством в нырянии до самого дна неизмеримо глубокой речки Воронки, протекавшей под городом, и проч. как нестерпимо ошарашивающее диво — полюбил этот народ и голос Никитича. Это было до такой степени дивное диво, что любители громящих нот Никитича иногда не выдерживали и принимались в церкви «трепать в ладоши». Если же оказывалось невозможным так выразить свое удовольствие, то обожатели Никитича доказывали это тем, что тотчас же уходили из церкви, как замирало последнее слово «Апостола», — потому что более интересного для них не оставалось ничего. Никитич сделался героем народа, и народ до безумия любил его. Говорит об этом то неизмеримое количество водки, которое вливал в него этот народ, умоляя, например, во время благовещения позабористей долбануть — «и Агарь…» Штофы французской водки вкачивали в него богатые купцы, желая, чтобы он точно так же, еще половчей, прогремел на свадьбе: «и жена да боится своего мужа-а!» И действительно, это-то время Никитич мог считать самым счастливым в жизни; в это время все его невероятные буйства, — начиная с буйств голоса до разгромления какого-нибудь тщедушного загородного кабачка, — совершались в полном экстазе его дикой и сильной природы. В это время ни о чем не думалось; виделось и слышалось не так, как видится и слышится людям, составляющим своими особами будничную картину мирной жизни, — а так, как видят и слышат пьяные уши и глаза. Но Никитич все-таки оставался тем же деревенским детищем… Время, однако, брало свое. С замиранием сердца начали замечать его обожатели, что с некоторого времени голос Никитича не так тверд и «верьха» выводит плохо, а иногда и совсем нехватает. «С перепою», — утешал себя народ, жалел Никитича и потом еще больше убеждался, что дело дрянь. Вышел раз Никитич с «Апостолом», кашлянул словно в бочку и завертел листами. Народ притаил дух… Раскрыл Никитич рот — и ни звука… Засипело что-то вместо громовых слов, кровью налилось лицо Никитича, и сердце замерло сразу у всей набившей церковь толпы. Случилось такое дело в другой, в третий раз, пробовал Никитич по неделям не пить, отрезвлялся, — но не ворочалось назад его исчезнувшее диво: в горле всегда словно чулок шерстяной был заткнут, голос хрипел, и сипел, и дрожал, словно кто Никитича за плечи в это время принимался трясти. Знатоки горевали об нем, не было другого более задушевного сожаления, как сожаления об его золотом голосе…
Горевали они, обожатели его, еще и о том, что в эту пору Никитич погибал в пьянстве самом зверском, самом неистовом. Пил он с горя, и потому он стоял на той дороге погибающих где-нибудь под забором, с раскроенным лбом или с проломленной головой, которая в самое короткое время постигает людей, успевших еще до этого момента расшвырять значительный запас своих сил. Но Никитич был еще в полном соку, он устал только, но не ослабел; и его природные силы, умевшие охранять голову от пролома и всегда хорошо сдававшие всякого рода сдачу, иногда успевали настолько пробудить его опьянелый, но нетронутый еще ум, что Никитич мог хладнокровно взглянуть на свои подвиги, и в таких случаях он находил, что «дело дрянь», что приходится доколачивать себя, тогда как по чистой совести не за что и доколачивать-то, да и доколотишь ли еще? Чаще и чаще начинали приходить ему в голову эти мысли. Покупная жизнь прошла. И Никитич тотчас же увидал, что он хуже всех на свете. Идет, например, он ранним утром, после ночи, проведенной на конце города в какой-то подозрительной лачуге; на длинных ногах его надеты чужие короткие разодранные шаровары; на плечах его чужая, узлами связанная рубаха, которую из милости дал целовальник вместо пропитой; похмельные и сердитые глаза его, созерцающие это рубище, припоминают Никитичу, что все это видит он не в первый, а в сотый раз, и в сотый же раз испытывает какое-то отвратительное ощущение, рожденное самим собой. В сотый раз видит он ни на волос не изменяющуюся картину будничной жизни, которая в лице своих представителей вытаращивает глаза при виде его, Никитича, фигуры. Скверно становится на душе у него, и начинает это деревенское детище задумываться надо всем, на что только упадут его глаза, потому что все больше и больше сознает оно ненужность своего деревенского опыта и смысла в этой чужой жизни, усвоившей, как на зло, всевозможные калечества. Чиновник не спеша идет в должность; барыня гуляет с детками, змей гудит в вышине, дерево стоит, а под деревом спит кто-то… И многое множество подобных будничных вещей останавливают его; все это видел он миллионы раз — все это даже надоело ему, как надоедает не прочитанная, но сотни раз перелистанная книга, в которой глаза почему-то останавливаются на одних и тех же строчках. И вот теперь все эти подробности принимают совершенно другой вид: их ненарушимое постоянство, переломившее своею стойкостию самое недовольство ими, говорит о чем-то таком, чего всеми мерами хочется добиться; говорит о такой тайне, которая зовет жить, требует не перелистывать, но прочитать книгу всю. И Никитич твердо решается сделать это, ему хочется теперь прочитать и постигнуть эту книгу с первой, заглавной строки до точки при конце, чтобы не быть хуже всех, чтобы самому участвовать в общей картине окружающей жизни. Но попадается ему книга, вовсе не для него написанная. Как только ему пришлось переступить границу из пьющего царства к миру и тишине нравов, — ему пришлось столкнуться с мелким чиновничьим бытом и с бытом городского духовенства: а в этом быту жизни-то никакой и не было как на зло. Представители мира и тишины наметили себе какие-то крошечные цели, вроде прибавки к жалованью или надежды переклеить потолки и т. п., и десятки лет дожидались этого счастливого времени, набивая томительные промежутки ожидания чем попало, всяким сором: дрались и ругались они за цыпленка, перелетевшего к соседям, пороли своих ребят, потому что нельзя же ребят не пороть, а как только не с кем было ругаться и некого пороть — баловались чайком. Самовары поэтому случаю были заведены большущие, по ведру входило… Потели таким образом они десятки лет, а когда, наконец, потолки были переклеены (прибавки вообще никто никогда не мог дождаться), — то уж не было никаких стремлений: геморои, поясницы и ревматизмы принимались хозяйничать над ними по-своему, и оставалось только желание, пронесенное в целости через всю жизнь и состоявшее в том, чтобы как-нибудь попасть в царство небесное, ибо в аду жара представлялась до такой степени ужасною, что одна капля воды равнялась целому кувшину холодного квасу, который в сей тленной жизни всякий чиновник выпивал залпом спросонок и с чем расстаться положительно не мог. — Не намечая себе иной цели, кроме желания не быть таким, как есть, Никитич с искренностию, какой не было в добрых людях, понимавших тайну фокуса, присматривался к этой житейской пустоте, будто бы (казалось ему) обставлявшей только самую тайну. Он щупал и разглядывал поодиночке каждую шерстинку в куске сукна и поэтому понятия о целом куске составить не мог. Не разглядев пустоты и мертвенности, которая царит в мирных нравах, Никитич решил прямо стать за кулисы этой жизни, и первый шаг к этому — женитьба. «Надо жениться, — размышлял он. — Что ж так-то?» Дело это совершал в полной трезвости, то есть в полной наивности ребенка. Невеста с первого взгляда не пришлась по вкусу Никитичу, но стоило ему увидеть поднявшуюся по случаю его появления суматоху, эти бледные, испуганные лица всей семьи, стоило услыхать, как кто-то в сенях умоляющим шопотом говорил: «Господи батюшка! Хоть бы теперича-то пристроить ее…» Наконец, стоило подглядеть в лице невесты трепет за роковую минуту, наставшую теперь, — и Никитич сказал: «Согласен». Жена попалась не по нем: вялое, больное существо, всеми забытая в семье, как такая девка, на которую никто не позарится, — она сама видела в замужестве свое тихое пристанище, хотела она немногого — именно только того, чтобы ею мог помыкать только муж, а не встречный и поперечный, толкавший ее и в хвост и в голову во время житья в семье. А Никитич и не думал никем помыкать, он сам отдавал себя на чужое помыкание, надеясь, что за него будут думать и таким образом спасут его, не умеющего думать по-ихнему, от погибели. Средства к спасению были предложены самые верные: «не пей и сиди дома». Не пил, дома сидел и дурел от скуки Никитич целые полгода. К этому времени жена его успела понемногу войти во вкус своей жизни: сначала она была рада-радешенька, что она мужняя жена, может доверху накачивать себя чаем, потом, расправляя крылья больше, начала помаленьку заводить истории с соседями, соседскими кухарками, притягивая сюда Никитича, который дело мог решить только в пьяном виде, и притом не иначе, как осадив всех воевавших своим здоровенным кулаком, а в это время он был трезв, стало быть, только таращил глаза и соглашался в одно и то же время с обеими противными сторонами. Жизнь жены входила все больше и больше в свою колею, — в короткое время были, благодаря ей, оцеплены сплетнями два квартала, и начинал пошевеливаться третий… Никитич все сидел дома; смирно сидел и не пил. Чувствовал он, что в этакой жизни он ни разу слова не сказал такого, чтобы нужно его было сказать; ни разу не подумал, не сознавая при этом, что думает так по необходимости; шагу не сделал по своему желанию. «Скучно», — осмеливался только думать Никитич. Раз подумал так, и два, и три… а потом потихонечку урвался из дому — в кабак! Да две недели и глаз не показывал домой. Случалось, забегал сюда он на минутку, чтобы сорвать со стены какую-нибудь принадлежность своего гардероба, и если ему под руки подвертывалась жена и выла при этом: «Злодей! Что ты с собой делаешь, губитель» и проч., то он не пропускал случая ответить ей по-своему.