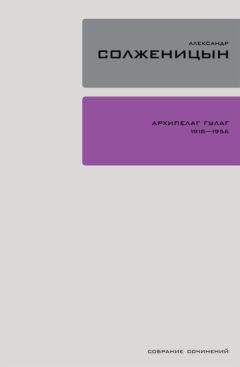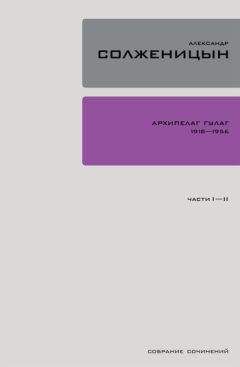Александр Солженицын - Архипелаг ГУЛАГ. Книга 3
Тупая глухая следственно-судебная туша тем и живёт, что она – безгрешна. Эта туша тем и сильна, тем и уверенна, что никогда не пересматривает своих решений, что каждый судейский может рубить, как хочет, – и уверен, что никто его не подправит. Для того существует закрытый сговор: каждая жалоба, в какую бы Перемоскву её ни послали, будет переслана на рассмотрение именно той инстанции, на которую она жалуется. И да не будет никто из судейских (прокурорских и следовательских) порицаем, если он злоупотребил, или дал волю раздражению или личной мести, или ошибся, или сделал не так, – покроем! защитим! стенкою станем! На то мы и Закон.
Как это так: начать следствие и не обвинить? Значит, холостая работа следователя? Как это: нарсуду принять дело и не осудить? Значит, следователя подвести, а нарсуд работает вхолостую? Что значит облсуду пересмотреть решение нарсуда? – значит, повысить процент брака в своей области. Да и просто неприятности своим судебным товарищам, зачем это? Однажды начатое, скажем по доносу, следствие должно быть непременно закончено приговором, который пересмотреть невозможно. И тут уж: один другого не подводи! И не подводи райком – делай, как скажут. Зато и они тебя не выдадут.
И что ещё очень важно в современном суде: не магнитофон, не стенографистка – медленнорукая секретарша со скоростями школьницы позапрошлого века выводит там что-то в листах протокола. Этот протокол не оглашается в заседании, его никому нельзя видеть, пока не просмотрит и не утвердит судья. Только то, что судья утвердит, – будет суд, было на суде. А что мы слышали своими ушами, – то дым, того не было.
Чёрнолакированное лицо истины всё время стоит перед умственным взором судьи – это телефонный аппарат в совещательной комнате. Оракул этот – не выдаст, но и делай же, как он говорит.
А мы – добились обжалования, небывалый случай. Потянулось заново переследствие. Прошло 2 года, подросли те несчастные дети, им хочется освободиться от ложных показаний, забыть их, – нет, их снова натаскивают родители и новый следователь: вот так будешь говорить, вот так, а то твоей маме плохо будет; если дядю Мишу не осудят, то твою маму осудят.
И вот мы сидим на заседании рязанского облсуда. Адвокат безправен, как всегда. Судья может отклонить любой его протест, и отклонение не подлежит уже ничьему контролю. Опять использование показаний враждебных соседей. Опять безсовестное использование показаний малолетних (сравните суд над Базбеем). Судья не обращается: «расскажи, как было», не просит: «расскажи правду», а «расскажи, как ты говорила на следствии!» Свидетелей защиты сбивают, путают и угрожают: «А на следствии вы показали… Какое вы имеете право отказываться?»
Судья Авдеева давит своих заседательниц, как львица ягнят. (Кстати, где седобородые старцы-судьи? Изворотливые и хитрые бабы заполняют наши судейские места.) У неё волосы – как грива, твёрдая мужская манера говорить, металлические вибрации, когда она сама содрогается от высокого значения своих слов. Чуть процесс идёт не по её – она злится, бьёт хвостом, краснеет от напряжения, прерывает неугодных свидетелей, запугивает наших учителей: «Как вы смели усумниться в советском суде? Как вы могли подумать, что кто-то подучил детей? Значит, вы сами воспитываете детей во лжи? А кто был инициатор коллективного письма в суд?» (В стране социализма не допускают самой идеи коллективного действия! – кто? кто? кто?) Прокурору Кривовой (да кто им фамилии выбирает!) даже и делать нечего при такой напористой судьице.
И хотя по процессу все обвинения развалились: Вова ничего в окно видеть не мог; Оля уже ото всего отказывается, никто её не растлевал; все дни, когда могло совершиться преступление, в единственной комнате Потаповых лежала и больная жена, не при ней же муж насиловал соседку-цыганку; и цыганка эта перед тем что-то у них украла; и цыганка эта дома не ночевала, таскалась под всеми заборами ещё до того, несмотря на свои 14 лет; – но не мог ошибиться советский следователь! но не мог ошибиться советский суд! Приговор – 10 лет! Торжествуй, наше судейское сословие! Не дрогните, следователи! Пытайте и дальше!
Это – при корреспонденте «Известий»! Это – при заступничестве Верховного Суда РСФСР! А как с теми, за кого не заступаются?..
И ещё почти год идёт казуистическая борьба – и наконец Верховный Суд постановляет: Потапов ни в чём не виновен, оправдать и освободить. (Три года просидел…) А как с теми, кто развращал и подучивал детей? Ничего, сорвалось так сорвалось. А легло ли хоть пятнышко на львиную грудь Авдеевой? Нет – она высокий народный избранник. А что решено о сталинском истязателе Васюре? На месте, на месте, когти не подстригались.
Стой и процветай, судебное сословие! Мы – для тебя, не ты для нас! Юстиция да будет тебе ворсистым ковриком. Лишь было б тебе хорошо! Давно провозглашено, что на пороге безклассового общества и судебный процесс станет безконфликтным (чтоб отразить внутреннюю безконфликтность общественного порядка): такой процесс, где состав суда, прокурор, защита и даже сам обвиняемый соединённо будут стремиться к общей цели.
Такая проверенная устойчивость правосудия очень облегчает жизнь милиции: она даёт возможность без оглядки применять приём прицеп, или «мешок преступлений». Дело в том, что по нерадивости, по нерасторопности, а когда и по трусости местной милиции – одно, другое и третье преступление остаётся нераскрытым. Но для отчётности они непременно должны быть раскрыты (то есть «закрыты»)! Так ждут удобного случая. Вот попадается в участок кто-нибудь податливый, забитый, дураковатый, – и на него нахомучивают все эти нераскрытые дела – это он их совершил за год, неуловимый разбойник! Кулачным битьём и вымариванием его заставляют во всех преступлениях «признаться», подписать, получить большой срок по сумме преступлений – и очистить район от пятна. (В Арташате, под Ереваном, совершилось убийство. В 1953 схватили одного наугад, обставили лжесвидетелями, били, дали 25 лет. А в 1962 нашёлся настоящий убийца…)
Общественная жизнь очень оздоровляется благодаря тому, что не остаётся ненаказанного порока. И милицейских следователей премируют.
Очистить район от пятна можно и противоположным способом: сделать так, будто уголовного преступления вообще не было. Старый бывший зэк Иван Емельянович Брыксин, 69 лет, отсидевший свою десятку когда-то (мой приятель по шарашке Марфино), в июле 1978 смертно избит и ограблен двумя молодыми хулиганами в вечернее пустынное время в дачном посёлке Турист. Два часа он лежит на автобусной остановке, его никто не поднимает. Затем привозят в ближайшую терапевтическую больницу в Деденёво. Врач Савельева не может оказать никакой помощи – и не отправляет его в травматологическую больницу; хотя он называет свою фамилию, имя-отчество, возраст, – она не сообщает о раненом по своей врачебной линии, ни даже в милицию, – и так трое суток, пока избитый с гематомой, кровоизлиянием в мозг, разбитыми зубами, залитыми глазами лежит не только без медицинской помощи, но даже без ухода санитарки (запила), на клеёнке, по плечи в моче. Трое суток родные мечутся, ищут его в этом же посёлке и по всей Савёловской дороге – но ведь врач никуда не доложила. Наконец находят и собственными – не больничными – усилиями вызывают из Москвы реанимационный автобус, который доставляет его к нейрохирургу, тот оперирует череп – но не может спасти от внутреннего кровоизлияния. Больной умирает после 9 дней мучений.
Местная икшанская милиция получила заключение судебно-медицинской экспертизы – но не спешит со следствием и тем более не осматривает в больнице одежду убитого, не ищет на ней следов. Да дело в том, что этих местных хулиганов в Деденёве все знают – и все их боятся. И вот та же врач Савельева помогает старшей следовательнице Герасимовой (при допросе жены убитого у неё в кабинете звучит эстрадный концерт) на третьем месяце следствия прийти к выводу: у пострадавшего случился инсульт, он упал и оттого разбился. Итак, арестовывать некого, преступления не было, и район чист.
Мир твоему праху, Иван Емельяныч!
А ещё более оздоровилось общество и ещё более укрепилось правосудие от того года, когда кликнуто было хватать, судить и выселять тунеядцев. Это указ тоже в какой-то степени заменил ушедшую гибкую 58–10: обвинение тоже оказалось вкрадчивое, невещественное – и неотразимое. (Сумели же применить его к поэту Иосифу Бродскому.)
Это слово – тунеядец – было ловко извращено при пер вом же прикосновении к нему. Именно тунеядцы – бездельники с высокой зарплатой, сели за судейские столы, и потекли приговоры нищим работягам и умельникам, колотящимся после рабочего дня подработать ещё что-нибудь. Да с какой злостью – извечною злостью пресыщенных против голодных – накинулись на этих «тунеядцев»! Два безсовестных аджубеевских журналиста («Известия», 23.6.1964) не постыдились заявить: тунеядцев недостаточно далеко от Москвы высылают! разрешают им получать посылки и денежные переводы от родственников! недостаточно строго их содержат! «не заставляют их работать от зари до зари» – буквально так и пишут: от зари до зари! Да на заре какого же коммунизма, да по какой же конституции нужна такая барщина?!