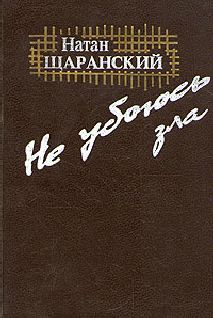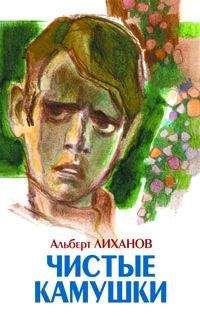Натан Щаранский - Не убоюсь зла
В камере меня встретил пожилой солидный человек с испуганным взглядом зека-новичка. Подавленность моя к этому времени прошла, уступив место уверенности вернувшегося домой хозяина и сентимен-тальным ощущениям человека, оказавшегося там, где он провел свою юность.
Да, подавленность прошла, но разочарование осталось. Как ни гнал я от себя надежду на чудо, она весь день жила в самой глубине души. Чего я ожидал? Встречи с родными в московском аэропорту? Немедленного освобождения? Отправки с места в карьер в Израиль? Не знаю. Но после того, как я внезапно был вырван из заточения и оказался в небесах, над миром ГУЛАГа, все казалось возможным, а приземление в том же мире привело к мгновенному отрезвлению после опьянения чистым кислоро-дом высот.
Скорее всего, меня привезли сюда для профилактических бесед или допросов по какому-нибудь другому делу. Но почему такая срочность? Только на одно горючее для самолета сколько денег ухлопали! Да мало ли что. Сказал, например, некий высокопоставленный кагебешник: "Когда можно будет приступить к допросам Щаранского?" А усердный подчиненный ответил: "Хоть завтра!", но тут же спохватился, а вдруг начальник понял его буквально, и распорядился немедленно доставить меня в Москву...
Вот такие забавные, но в общем-то вполне реальные для советской бюрократической системы картины представлялись мне вечером в каме-ре. Что ж, приходилось мириться с возвратом из страны чудес...
Мой сосед, попавшийся на взятках чиновник, рассказу о путешест-вии из лагеря в Москву не очень поверил. Кавалькада из трех машин ра-ди одного зека, гаишники, отдающие честь, ну что за бред! И только предположение о расторопном чиновнике, срочно затребовавшем меня из зоны, чтобы ублажить своего начальника, показалось ему вполне ре-зонным.
* * *
И все же в первые два-три дня я еще надеялся: а вдруг?.. Но прошло десять дней, меня никто не тревожил, и я быстро втянулся в нормаль-ный лефортовский режим. Теперь, набравшись в ГУЛАГе опыта, я, на-конец, оценил справедливость слов моего следователя: "Лефортово -- курорт по сравнению с другими тюрьмами". Действительно, еда почти не уступала больничной, ларек -десятирублевый, даже витамины я продолжал получать. Правда, воздух, которым мы дышали на прогулке, а зеков теперь выводили на крышу тюрьмы, был, конечно, не тем, что на Урале. Но самое главное, я вновь встретился с друзьями своей гулаговской юности: героями книг, хранившихся в великолепной лефортов-ской библиотеке. Интересно, какие теперь сложатся у меня с ними отно-шения? Теперь им уже не надо было меня утешать, успокаивать, убеж-дать в том, что существует мир высших ценностей, ради которого можно и смерть принять. На сей раз они просто рассказывали мне о том, что пережили, и я слушал каждого из них, как один ветеран войны другого, сверяя его боевой опыт со своим.
...Утром десятого февраля я получаю из библиотеки заказанные кни-ги: пьесы Шиллера и роман Гете "Годы учения Вильгельма Мейстера" -- и, предвкушая удовольствие, начинаю их листать. Вдруг открывается кормушка:
-- На вызов.
Ага, вспомнили, наконец, обо мне! Что ж, давненько я не был на до-просе. Посмотрим, как это делается теперь. Но приводят меня не в след-ственный отдел, а в ту самую буферную камеру, где я уже дважды начи-нал и однажды заканчивал свою лефортовскую жизнь. Опять этап?
Меня раздевают. Отбирают все, что я недавно получил в лагере, и выдают... гражданскую одежду! Господи! Это действительно что-то но-вое. Пытаясь скрыть волнение, натягиваю на себя тонкое белье, голу-бую рубашку, огромные серые брюки и такой же пиджак.
-- Дайте мне ремень, -- говорю, -- брюки не держатся.
-- Не положено.
После короткого совещания один из ментов уходит и вскоре возвра-щается с обрывком бечевки. Я кое-как стягиваю брюки, но это мало по-могает, и в ближайшие два дня мне придется все время поддерживать их, чтобы не свалились. Затем я получаю носки, туфли, шарф, длинное синее пальто и зимнюю шапку, в каких ходит половина Москвы. А гал-стук, который тоже был среди вещей, один из ментов забрал, сказав:
-- Получите потом.
Наконец мы выходим в тюремный двор, где я вижу тех самых кагебешников, что доставили меня в Москву из Перми. Подхожу к ним и спрашиваю:
-- Что будет с моими вещами -- и теми, что остались в лагере, и те-ми, что сейчас здесь, в тюрьме?
-- Вам их скоро отдадут.
-- Без книги псалмов я никуда не поеду.
Меня хватают за руки и тащат к стоящей неподалеку "Волге", но я громко протестую, кощунственно нарушая своим резким голосом благо-лепную лефортовскую тишину. Начальник тюрьмы, который тоже здесь, среди моей свиты, что-то шепчет одному из офицеров, тот уходит и вскоре возвращается с книгой, которую передает "интеллигенту".
-- Получите ее на месте.
Только теперь я замечаю кинооператора и фотографа, суетящихся вокруг нас и снимающих все происходящее. Вот это да! Ну, дай Бог, чтобы я остался в ГУЛАГе только запечатленным на их пленках!
И снова три машины несутся по московским улицам. Куда на этот раз? Нет, не в центр, не на встречу с большими шишками. И не во Вну-ково, значит, не в лагерь.
Когда позади остаются Люберцы, я понимаю, что мы едем в Быков-ский аэропорт. Машины останавливаются на летном поле, у самого тра-па, когда я выхожу, то вижу, что фотограф и оператор со своей аппара-турой уже тут как тут.
-- Где мои псалмы? -- спрашиваю я стоящего рядом со мной "интел-лигента".
-- Все, что вам было положено, вы уже получили, -- неожиданно грубо отвечает тот и командует моим телохранителям: -- Ведите! Я вырываюсь из их рук и ложусь на снег.
-- Не сдвинусь с места, пока не вернете книгу.
После короткой консультации "босс" отдает мне псалмы. Я быстро поднимаюсь по трапу. В самолете фотографы еще минут десять снимают меня.
-- Только не забудьте прислать фотографии, -- говорю я им.
Снова мы остаемся в огромном самолете в тесной компании: я и чет-веро моих спутников из охранки. Два "хвоста" садятся позади меня, "босс" и "интеллигент" уходят в задний отсек.
-- Куда летим? -- спрашиваю я.
-- Не знаю, -- отвечает кто-то за спиной.
Взлетаем, набираем высоту. Сориентировавшись по солнцу, я вижу: летим на запад. Сжимаю в руках сборник псалмов, читаю свою молит-ву, а потом, чтобы отвлечься, пытаюсь вызвать "хвостов" на разговор. Те, однако, его не поддерживают. Вскоре к нам присоединяется "интел-лигент", но и он помалкивает. Так проходит часа два. Мы продолжаем лететь на запад.
Кто-то из сопровождающих протягивает мне сзади бумажный кулек:
-- Поешьте, если хотите.
В кульке -- бутерброды с салом и пакетик чая. Его я кладу в карман, решив выпить свой последний пайковый чаек, как только окажусь в Из-раиле, а бутерброды возвращаю.
-- Ах, простите, -- говорит кагебешник, -- вы, наверно, свинину не едите, мы об этом не подумали. Сейчас вам приготовят что-нибудь дру-гое.
-- Не беспокойтесь, -- отвечаю, -- я не голоден. А теперь скажите все же, что происходит? Куда мы летим?
И тут из-за занавески, разделяющей отсеки, появляется начальник. Он подходит ко мне и торжественно произносит:
-- Гражданин Щаранский! Я уполномочен объявить вам, что указом Президиума Верховного Совета СССР за поведение, порочащее высокое звание советского гражданина, вы лишены советского гражданства и как американский шпион высылаетесь за пределы СССР!
Свершилось! Я встаю и не менее торжественно говорю:
-- Я намерен сделать по этому поводу письменное заявление. Прошу дать мне ручку и лист бумаги.
-- Нам ваши заявления не нужны.
-- В таком случае я сделаю устное заявление. Во-первых, я очень рад, что через тринадцать лет после того, как я впервые возбудил хода-тайство о лишении меня советского гражданства, мое требование нако-нец-то удовлетворено. Во-вторых, после того, как мне объявлено, что я высылаюсь из СССР, и мне уже ничто не угрожает, я повторяю то, что говорил во время следствия, на суде и после суда: моя деятельность ев-рейского активиста и члена Хельсинкской группы не имела ничего об-щего со шпионажем и изменой. Я убежден в том, что, помогая желаю-щим выехать из СССР и тем, чьи гражданские права нарушались, я за-щищал не только их личные интересы, но в конечном счете -- интересы всего общества, в котором был вынужден жить вопреки своему жела-нию. Поэтому я надеюсь, что зачитанный мне сейчас указ -- не послед-ний документ в моем деле, рано или поздно меня признают невинов-ным, а тех, кто преследовал людей за их убеждения, накажут.
Высказавшись, я сел и стал читать тридцатый псалом Давида, зара-нее выбранный мною для освобождения: "...Превознесу тебя, Господь, ибо ты возвысил меня и не допустил, чтобы мои враги восторжествовали надо мной. Господь, Бог мой, я взывал к Тебе, и Ты меня исцелил... Ты сделал так, что мой траур сменился праздником для меня, Ты снял с ме-ня рубище мое и препоясал меня весельем. За это будет воспевать Тебя душа не умолкая, Господь, Бог мой! Всегда буду благодарить тебя!"