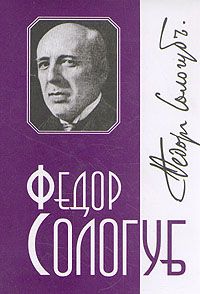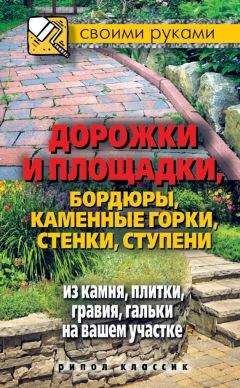Федор Сологуб - Том 5. Литургия мне
Ему стало тяжело. Он подошел к Танюшке, заглянул в ее потупленное, раскрасневшееся лицо и удивился, – где же Танюшкины слезы? где же ее печаль?
Подняла на него глаза Танюшка, улыбнулась светло, сказала:
– Братик миленький.
Охватила его шею руками, поцеловала, – сладкий, невинный поцелуй, как сестра целует милого брата. Клонящееся к закату солнце облило ее щеку таким теплым, таким нежным потоком весело-алых и золотых лучей, и так легко легла на Алексеевы плечи стройность Танюшкиных голых рук, и такое сладкое благоухание вдруг обвеяло его, набежав с резвым ветерком от речки, что радостным и светлым показался Алексею весь мир. И где же страстность, только что бушевавшая в нем? Ее нет.
– Милая сестра моя, – спросил Алексей, – я рад, что ты не опечалена, но скажи, – тебе не жаль той, другой любви нашей?
– Я плакала об ней, – отвечала Танюшка, – глупая! И вдруг, точно тихая молния с неба, на меня упала радость. Ведь я нашла в тебе брата!
– А я? – спросил Алексей не то Танюшку, не то самого себя.
Танюшка засмеялась. Сказала:
– Все-то ты спрашиваешь!
– Других мало спрашивал, – говорил Алексей, – только тебя. Но знаю, знаю сам, – вот увидел тебя здесь, на этих дорожках, и душа моя узнала тебя. Что-то родное влекло меня к тебе, и если бы мы не узнали тайны нашей, то мы всю жизнь были бы влюблены друг в друга, как бывают иногда влюбленные друг в друга и такие схожие между собою муж и жена. И я хотел обладать тобою, и ты хотела быть моею!
Танюшка засмеялась:
– Хотела ли? Спросил бы у меня прежде, чем говорить.
Алексей продолжал:
– Мы тянулись друг к другу, сладко влюбленные, очарованные своею влюбленностью. Но тайна открыта, и влюбленность наша преобразилась в братскую любовь. Как будто бы знание гасит страсть.
Танюшка смотрела на него, нежно улыбаясь.
– Ну, вот и объяснил, – сказала она.
И потом заговорила очень тихо:
– А все-таки мне очень горько было сегодня, когда я сидела одна там, в кустах над рекою. Даже плакала. Еще не сразу поняла, какая радость – найти себя, найти брата.
Вслушался Алексей в голоса своей души и понял, что в нем ликует ответная радость, – такое счастье найти сестру! Страстная, плотская любовь его, сгорая, таяла в отрадном пламени глубокого и тихого чувства.
Прачка с длинною косою*
Сусанна была самая молодая из прачек, работавших в прачечной Мирзоева, у самого берега бухты, где такая фосфорически-зеленая, словно крашенная размытою ярью, вода. И самая красивая. Ни у кого из ее товарок не было такой длинной косы. И никто из них не умел так сладко петь и так звонко смеяться.
Пять прачек стирали белье в лоханках, поставленных на дворе у берега. От улицы двор был отделен невысокою сквозною изгородью, и всякий идущий по улице мог увидеть, как хороша Сусанна, какие у нее стройные и сильные руки и как румяны ее смуглые щеки, и как в открытых деревянных сандалиях об одном ремешке красивы ее быстрые ноги.
Молодой Георгий шел мимо. К вечеру он каждый раз проходил здесь, останавливался у изгородки и заговаривал с Сусанною и ее подругами.
– Сусанна! – окликнул он молоденькую прачку. – Скоро кончишь?
– А тебе что? – ответила Сусанна.
Засмеялась, резвая, и вдруг почему-то вздрогнула, словно кто-то провел холодною рукою по ее спине от плеча к плечу, засунув костлявые пальцы за широкий ворот белой рубашки. Глянула на Георгия и нахмурилась.
Красив был молодой Георгий и люб Сусанне. А сейчас почему-то ей стало томно и тяжко смотреть на него. Слишком ярки показались ей его губы, и зубы сверкнули, чрезмерно белы и остры, и непомерно жгуч был огонь его черных глаз.
Смотрела на него Сусанна, и казалось ей, что огненные невидимые струи льются на нее от этих чародейных глаз, – струи огня, перемежаемые струями обжигающего холода.
– Не гляди, окаянный! – крикнула она, – что ты на меня холод и жар наводишь!
Прачки засмеялись. А одна из них, постарше, и уже с пробивающеюся кое-где сединою в черных волосах, сказала:
– Да уж не лихорадка ли к тебе пристала, Сусанна? Что-то ты бледная такая вдруг стала.
Сусанна ярко покраснела и сказала сердито:
– Пристанет, когда тут остановятся да смотрят. Иди, иди себе, Георгий, мимо, – сегодня вечером мне надо идти к бабушке.
Георгий засмеялся.
– О, сердитая какая ты сегодня, Сусанна! – сказал он. – Как царица.
Прачки засмеялись:
– И правда как царица.
– Красивая, зато уж и гордая.
– Думает, нет ей равных.
Георгий подмигнул им и сказал Сусанне:
– Сусанна, слушай, – хочешь быть царицей?
Обидно стало Сусанне, потемнело у нее в глазах, голова закружилась, в ушах зашумело. Стиснув зубы, наклонилась она над лоханкою, напрягая мускулы стройных нагих рук, и словно издалека откуда-то доносились до нее голоса и смех.
IIВечерело и темнее становилось. Зной и холод бичевали дрожащее тело прачки с длинною косою. Все перед глазами ее было как бред. Толстый хозяин ходил по двору, зеленолицый и злой, и голос его звучал, противный, визгливый. Голоса подруг были резки, и лица их казались гнусными и враждебными. Кто-то прозрачный и льдяно-холодный давил порозовевшие подъемы ее ног.
А по улице мимо гремели бубны и литавры, проносились тускло-красные языки факелов и шли пестро наряженные люди, – во всю ширину тихой улицы шли, смеялись и пели что-то.
Но что же это? Никого на улице нет. Пригрезилось это Сусанне?
Нет, опять идут, шумят, несут пестрые знамена.
Георгий идет впереди всех. И уже вот он во дворе и стоит перед Сусанною. Где же его рваная куртка? На нем яркий, красный наряд и на голове его золотая шляпа с красными перьями. Из глаз его льются два пламени, и он говорит:
– Прачка с длинною косою, хочешь быть царицей мира?
– Хочу, – шепчет Сусанна.
Но где же Георгий? И где же остальные? Холодеет вода в лохани, и опять напряжены в спешной работе нагие руки, и покрикивает хозяин:
– Живо, живо. Время не ждет.
Сусанна бледнеет и падает на землю, и подруги с резкими криками окружают ее, опираясь в бока мокрыми руками со сморщенными от стирки пальцами.
IIIОпять блеск, шум, великолепие, – и так шумно, и так ярко, что Сусанна едва различает предметы, и голова ее томно кружится.
Она сидит высоко-высоко, – перед нею возвышаются белые, столпообразные колонны, как в храме, – над нею, высоко-высоко, из темнеющего купола спускаясь, горят огни в громадной люстре, как в городском кафедральном соборе. Пахнет сладко и томно, как в храме. Слышно медленное торжественное пение.
«Что же мне делать?» – думает Сусанна.
И странная тоска объемлет ее и сменяется равнодушною скукою. Кажется ей, что она уже нескончаемо долго сидит на своем превысоком троне. Она оглядывает себя, – на ней белое, тяжелое платье из шумящего глазета, и на плечах ее тяжелая багряная порфира, – красный бархат и белый мех. На ее ногах – лиловые башмаки. Голову давит что-то тяжелое, – Сусанна догадывается, что на ней корона.
– Дайте мне зеркало, – говорит она тихо.
Но как бы тихо ни говорила царица, слова ее услышат. Две прекрасные девушки в вишнево-алых одеждах, с маками в черных волосах, держат перед нею зеркало, и блестит золотая рама. А из-за стекла смотрит на Сусанну бледное, гордое лицо с гневно горящими глазами. Низко на лоб надвинута соболья шапка, и на ней многоцветно сияющая корона, золотая, с самоцветными камнями, похожая на митру старого епископа.
Какая тяжелая! И как блестит! Глазам больно.
И шепчет Сусанна:
– Не надо. Уберите.
Уносят зеркало. И опять ждет чего-то Сусанна.
Что же ей делать? Что делают державные царицы на своих превысоких тронах?
Вот подходят к ней вельможи в раззолоченных одеждах и говорят ей что-то. Слова их сливаются в смутный гул.
И говорит кто-то льстивый, низко перед нею склоняясь:
– Георгия сделать генералом.
Сусанна улыбается. Георгий, который ловит рыбу в море?
– Ну что же, – говорит она, – пусть Георгий будет генералом.
А это что блестит на столе направо? Золотые монеты. Кто-то, похожий на хозяина прачечной, говорит:
– Эти деньги не отдать ли нищим, слепым, хромым, убогим?
– Отдай, – говорит Сусанна.
Слышен визг нищих где-то внизу. Летят вниз золотые монеты. Вельможа, похожий на хозяина прачечной, бросит горсть народу, а другую горсть сунет в свой карман.
Сусанна хочет сказать что-то и не может. Она смотрит в другую сторону и видит на столе длинный, широкий, острый нож.
– Это что?
– Это меч, – говорит ей грозный судья, – казнит злодея.
У грозного судьи страшное лицо, и в руке его бумага. Он подает Сусанне бумагу и говорит низким басом, как дьякон, говорящий эктению: