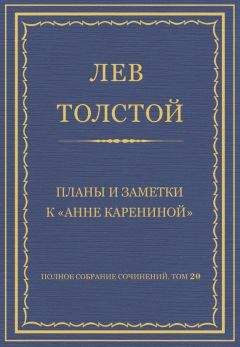Лев Толстой - Полное собрание сочинений. Том 20. Варианты к «Анне Карениной»
Дарья Александровна на четверкѣ соловопѣгихъ, какъ и распорядился Ордынцевъ, выѣхала послѣ чая и въ самый жаръ, тогда, когда мужики съ косами укладывались на отдыхъ, а ярко пестрыя бабы на сухомъ жару съ пѣснями ходили рядами, загребая валы, подъѣзжала къ Полунину. У поворота въ аллею съ старой скотопрогонной большой дороги кучеръ остановилъ запотѣвшую четверню и кликнулъ мужика изъ кучки, лежавшаго подъ оглоблями телѣги. Слѣпни облѣпили лошадей, лошади били ногами, и стало еще жарче. Вѣтерокъ, который былъ на ѣздѣ, затихъ. Одинъ старикъ отбивалъ косу; металическій звонъ отбоя равномѣрно раздавался въ тишинѣ послѣ звука колесъ. Безъ шапки, курчавый сѣдой старикъ съ темной отъ пота горбатой спиной босикомъ подошелъ къ коляскѣ, не выпуская изъ рукъ косу[1635].
– Въ Полунино? На барскій дворъ? Прямо по пришпекту, – сказалъ онъ. – Да вамъ кого?
– Барина, голубчикъ, – сказала Дарья Александровна, – и барыню. Дома они?
– Барыню то молодую? – сказалъ мужикъ. – Дома нѣтъ, матушка, сейчасъ верхомъ проѣхали. Значитъ, разгуляться проѣхали, а то дома. А вы, видать, не бывали еще у нашего то, – сказалъ мужикъ, видимо желая поговорить.
– Нѣтъ, не была.
– Ну такъ поглядите, глазъ не отведешь. Ужъ какъ убралъ баринъ то – бѣда. Лучше царскаго дворца. Страсть.
– Вотъ какъ.
– А вы чьи будете?
– Изъ Волхова, – сказалъ кучеръ, влѣзая на козлы.
– Михаилъ Николаича, знаемъ. Баринъ хорошій. Что, работы нѣтъ ли насчетъ покосу?
Молодой здоровый, огромнаго роста парень подошелъ тоже.
– Не знаю, голубчикъ. Ну, прощай.
– Съ Богомъ, – сказалъ мужикъ.
Но только что они тронулись въ аллею, онъ закричалъ ему, махая рукой:
– Постоооой! – Кучеръ остановился. – Самъ ѣдетъ. Вонъ они втроемъ. Вишь, заваливаютъ, – говорилъ мужикъ, указывая на 3-хъ верховыхъ, скакавшихъ по дорогѣ.
Это были Удашевъ, Анна и конюхъ. Виднѣе всѣхъ была Анна въ развѣвающейся черной амазонкѣ и вишневомъ вуалѣ. Сіяющее красивое лицо ея и глаза еще издалека блестѣли. Она сидѣла, низко перевалившись на право, прекрасная, потолстѣвшая. Но тонкая талія ея не отдѣлялась отъ сѣдла на быстромъ галопѣ золотистой гнѣдой кобылы, отбивавшей темпъ галопа по сухой муравкѣ дороги. Подъ Удашевымъ была кровная темно гнѣдая лошадь. И онъ съ скрытыми усиліями держалъ ее на тугомъ трензелѣ, чтобы ровняться съ дамой. Щегольство, нарядность, чистота новизны на ихъ платьяхъ, сѣдлахъ, лошадяхъ ихъ обоихъ, мастерство ѣздить пріятно поразили Долли, но еще пріятнѣе поразило ея выраженіе на ихъ лицахъ такой большой радости при видѣ ея, какая не соотвѣтствовала событію. Они оба обрадовались, какъ обрадуются, увидавъ послѣ годовъ изгнанія земляковъ на чужой сторонѣ.[1636] Анна, бѣлая, румяная, пополнѣвшая съ тѣхъ поръ, какъ Долли не видала, просіяла счастливой улыбкой, узнавъ Долли, взглянула на Удашева, какъ бы подтверждая ему что то радостное этимъ взглядомъ, и, не дожидаясь помощи, соскочила съ лошади и бросилась къ Долли въ коляску обнимать ее.
– Вотъ радость, Алексѣй! вотъ радость. Дайте мнѣ разцѣловать васъ. Какъ вы похудѣли, вотъ радость.
Удашевъ, снявъ сѣрую высокую шляпу, и открывъ лысину, тоже улыбался улыбкой радости, которую онъ не могъ удержать.
– Такъ поѣдемъ, вы устали и жарко.
Поцѣловавъ руку гостьи, онъ опять сѣлъ на лошадь и рысью поѣхалъ впередъ. Двѣ женщины, казалось, не могли нарадоваться на себя и дѣлали вопросы, не успѣвая отвѣчать. Долли любовалась на своего друга. Она пополнѣла и похорошела еще: несмотря на то, что въ ней не было болѣе того выраженiя вызывающаго веселья, которое она видѣла въ ней тогда: выраженье это замѣнилъ тихій[1637] любовный свѣтъ.
– Ну, я вамъ все покажу, вотъ это нашъ паркъ начинается. Алексѣй глупости дѣлаетъ, тратится; но чтожъ дѣлать. Вѣдь это не вредно, если есть средства. Вонъ оранжереи. А вотъ сейчасъ вы увидите домъ. Это еще дѣдовскій домъ, и онъ ничего не измѣнилъ въ немъ съ наружи.
– Очень хорошъ. Прелесть.
– Отчего вы такъ похудѣли?.. Но вы счастливы? послѣ того…
– Да, сколько могу счастлива дѣтьми.[1638] Тебя я не спрашиваю…
Анна вздохнула вмѣсто отвѣта.
– Со мной что то волшебное случилось. Знаешь, сонъ вдругъ сдѣлается страшнымъ, и проснешься, такъ и я. Но, можетъ быть, и это сонъ.
– Ну, какъ я рада, что я тебя вижу и что ты счастлива.
– Да, но ты знаешь, Миши нѣтъ со мной…
– Я знаю.
– Ему уже 7 лѣтъ. 3-го дня было его рожденье. А вотъ и домъ. Алексѣй уже пріѣхалъ давно. Вотъ ведутъ его лошадь. Какая красавица, не правда ли? Я его заставляю ѣздить, а то всѣ кавалеристы непремѣнно бросаютъ ѣзду. Да, домъ огромный. Вотъ тутъ мы тебя помѣстимъ. Ты погостишь? На долго ли? Какъ до завтрашняго утра? Да это нельзя.
– Нельзя, я такъ обѣщала, и дѣти.
– Ну, увидимъ.
Они вышли изъ коляски.[1639] Анна провела Долли въ ея комнату. Все – паркъ съ гротами – все свѣжо, вновь отдѣлано, все выкрашено, дорожки съ краснымъ щебнемъ, бархатные газоны, старикъ въ фартукѣ, чистившій и показывавшій имъ партеры съ стеклянными глоб[усами] на стал[яхъ], два лакея въ бѣлыхъ галстукахъ, выскочившіе встрѣчать, зала съ картинами, видъ гостиной съ тяжелыми штофными портьерами, ея комнаты – все съ иголочки (видно было, что никто еще не жилъ тутъ), горничная франтиха и все, все новое, все говорило о той некрасивой новой роскоши, свойственной одинаково быстро изъ ничего разбогатѣвшимъ людямъ, откупщикамъ, жидамъ, желѣзнодор[ожникамъ] и людямъ развратнымъ, вышедшимъ изъ условій честной жизни, такъ какъ источникъ этой некрасивой роскоши одинъ: желаніе наполнить пустоту жизни, пустоту, образовавшуюся или отъ неимѣнія общественной среды или отъ потери среды бывшаго общества. Анна пошла къ себѣ переодѣваться, а Долли, оставшись одна съ франтихой, съ огромнымъ шиньономъ и миндальными ногтями горничной среди мраморныхъ умывальниковъ, сильныхъ духовъ, все новыхъ, думала именно объ этомъ и не хотѣла вѣрить тому, но невольно думала это, и нѣкоторыя движенія Анны[1640] вспоминались ей, и она съ отвращеніемъ отгоняла эту мысль, но мысль опять приходила. Еще она не кончила одѣваться, какъ Анна пришла къ ней и съ своей сдержанной энергіей движеній докончила ея туалетъ и повела ее сначала въ дѣтскую, гдѣ была Англичанка въ букляхъ и опять таже новая роскошь. Въ дѣтской, въ этомъ дорогомъ единственномъ мірѣ Дарьи Александровны, эта роскошь еще больнѣе поразила ее. Ея дѣтская была чистая, но не элегантная, и она слишкомъ высоко цѣнила святыню дѣтской, чтобъ украшать ее. Украшенія казались ей святотатствомъ. Самъ ребенокъ, красавица дѣвочка, акуратный крѣпышъ съ черными глазами и бровями, съ ямочками, красавица, подобной которой она не видывала, въ кружевахъ и лентахъ, понравилась ей очень, но не взяла ее за сердце. Изъ дѣтской они встрѣтили Удашева утонченно учтиваго, съ которымъ посидѣли въ гостиной, прошли по дому, поиграли на биліардѣ и только передъ обѣдомъ двѣ женщины, сидя въ саду, разговорились по душѣ. Разговоръ начался о жизни въ деревнѣ. Дарья Александровна хвалила свою жизнь и говорила, что если бы мужъ былъ съ нею, она бы ничего не желала.
– Ты совсѣмъ, можетъ быть, счастлива теперь.
– Да, я и счастлива, – поспѣшно сказала Анна. – Я настолько пережила, что убѣдилась – намъ – женщинамъ отъ жизни можно имѣть только любовь. И если есть, больше ничего.[1641]
– A дѣти!
– Другой я не скажу. Что мнѣ дѣти, и ты вѣрно всѣхъ отдашь за мужа.
– О! нѣтъ.
– Мы гадки, – вдругъ неожиданно зло сказала Анна. – Какъ мы гадки. Въ насъ вложена эта любовь къ мущинѣ; a вмѣстѣ съ тѣмъ, если женщина хороша, эта любовь противна мнѣ. Противна, противна.
«Да, но дѣти», хотѣла сказать Долли, но вспомнила, что мысль о дѣтяхъ, объ одномъ, у Анны Аркадьевны должна быть тяжела для нея, и она промолчала. Эту необходимость умалчивать о нѣкоторыхъ предметахъ она тутъ въ первый разъ почувствовала, но потомъ впродолженіи дня нѣсколько разъ замѣчала ее или, что еще хуже, замѣчала послѣ того, какъ уже сказала, что не надо было говорить.[1642]
– Одно, что меня безпокоитъ, – продолжала Анна, – это то, что онъ не уживется. Имъ нужна какая то дѣятельность. И все вздоръ.
И опять въ ея глазахъ мелькнула мрачная тѣнь, которой она, видимо, сама боялась. Она поспѣшила заговорить о другомъ.
– Ну, что Кити? Не сердится на меня?
– Сердится? Нѣтъ, но ты знаешь, это не прощается.
– Да, но я не была виновата, и кто виноватъ, что такое виноватъ? Это была судьба. И ей лучше, говорятъ, онъ прекрасный человѣкъ.
– О, да.
Странный звукъ. Это былъ тамъ-тамъ. Они пошли обѣдать. За обѣдомъ опять были неловкiе мѣста въ разговорѣ. Долли сказала, что она пріѣдетъ другой разъ, но что не проситъ отдавать визита. На минуту замолчали, и Анна и Удашевъ переглянулись.
– Да, Москва, – сказала Анна. – Можетъ быть, мы поѣдемъ въ Петербургъ. Тогда я буду у васъ.