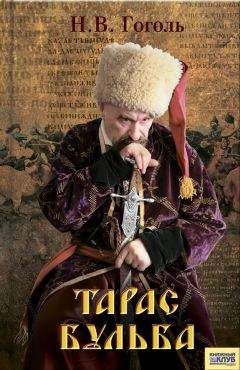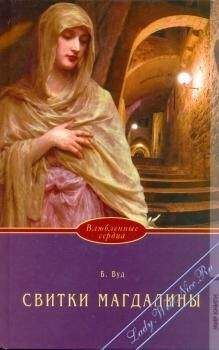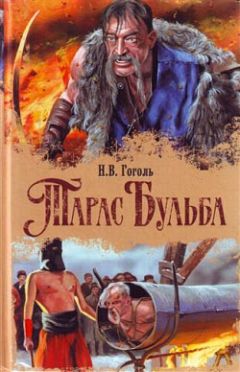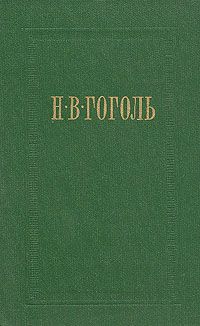Зинаида Гиппиус - Том 6. Живые лица
О тундре
Писать роман – какое бремя!
Писать и думать: не поймут…
Здесь, на чужбине, в наше время,
Еще тяжеле этот труд.
А кончил – «не противься злому»:
Идешь на то, чтобы попасть
Антону Крайнему любому –
В его безжалостную пасть.
Не жди от критиков ответа,
Скорее жди его от нас:
Ведь всем известно, что поэты
Проникновенней во сто раз.
И по заслугам оценив, мы
Давно б воспели твой роман.
Но только… нет на «Тундру» рифмы.
И в этом весь ее изъян.
1926
Paris
«Люблю огни неугасимые…»
Люблю огни неугасимые,
Любви заветные огни.
Для взора чуждого незримые,
Для нас божественны они.
Пускай печали неутешные,
Пусть мы лишь знаем, – я и ты, –
Что расцветут для нас нездешние
Любви бессмертные цветы.
И то, что здесь улыбкой встречено,
Как будто было не дано,
Глубоко там уже отмечено
И в тайный круг заключено.
Октябрь
Чуть затянуто голубое
Облачными нитками.
Луг, с пестрой козою,
Блестит маргаритками.
Ветки, по-летнему знойно,
Сивая слива развесила,
Как в июле – всё беспокойно,
Ярко, ясно и весело.
Но длинны паутинные волокна
Меж высокими цветами синими.
Но закрыты милые окна
На даче с райским именем.
И напрасно себя занять я
Стараюсь этими строчками:
Не мелькнет белое платье
С лиловыми цветочками…
1926
Le Carnet
Отраженность
Опять ты зреешь золотистой дыней
На заревом небесном огороде,
И с каждым новым вечером – пустынней
Вокруг тебя, среди твоих угодий.
И с каждым вечером на желтой коже
Сильней и ярче выступают пятна:
Узор, как будто на лицо похожий,
Узор тупой, привычно-непонятный.
Всё это мне давным-давно знакомо!
Светлей, круглись и золотей бессонно.
Я равнодушен к золоту чужому,
Ко всем на свете светам – отраженным.
Две
Она войдет, земная и прелестная,
Но моего ее огонь не встретит.
Ему одна моя любовь небесная,
Моя прозрачная любовь ответит.
Я обовью ее святой влюбленностью,
Ее, душистую, как цвет черешни.
Заворожу неуловимой сонностью,
Отдам, земную, радости нездешней.
А пламень тела, жадный и таинственный,
Тебе, другой, тебе, незримой в страсти.
И ты придешь ко мне в свой час единственный,
Покроешь темными крылами счастья.
О, первые твои прикосновения!
Двойной ожог невидимого тела.
И путь двойной – томления и дления
До молнии, до здешнего предела.
1915–1927
Стихотворный вечер в «Зеленой лампе»
Перестарки и старцы и юные
Впали в те же грехи:
Берберовы, Злобины, Бунины
Стали читать стихи.
Умных и средних и глупых,
Ходасевичей и Оцупов
Постигла та же беда.
Какой мерою печаль измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
Что это не навсегда!
В «Зеленую Лампу» чинную
Все они, как один, –
Георгий Иванов с Ириною;
Юрочка и Цетлин,
И Гиппиус, ветхая днями,
Кинулись со стихами,
Бедою Зеленых Ламп.
Какой мерою поэтов мерить?
О, дай им, о, дай им верить
Не только в хорей и ямб.
И вот оно, вот, надвигается:
Властно встает Оцуп.
Мережковский с Ладинским сливается
В единый неясный клуб,
Словно отрок древнееврейский,
Заплакал стихом библейским
И плачет и плачет Кнут…
Какой мерою испуг измерить?
О, дай мне, о, дай мне верить,
Что в зале не все заснут.
31 марта 1927
Тройное
Тройною бездонностью мир богат.
Тройная бездонность дана поэтам.
Но разве поэты не говорят
Только об этом?
Только об этом?
Тройная правда – и тройной порог.
Поэты, этому верному верьте.
Только об этом думает Бог
О Человеке.
Любви.
И Смерти.
Ей в Thorenc
В желтом закате ты – как свеча.
Опять я стою пред тобой бессловно.
Падают светлые складки плаща
К ногам любимой так нежно и ровно.
Детская радость твоя кротка.
Ты и без слов, сама угадаешь,
Что приношу я вместо цветка…
И ты угадала, ты принимаешь.
Белград
Он до сих пор тревожит мои сны…
Он символ детства, тайного мечтанья,
И сказочной, далекой старины,
И – близкого еще воспоминанья.
О, эта память о недавних днях!
Какая в ней печальная отрада!
Дым золотой за Савой, на холмах,
И нежный облик милого Белграда.
А виноградник, свежий дух земли,
Такой живительный и полный ласки…
На карточке – улыбка Эмили, –
Пленительной царевны в русской сказке.
Над белой скатертью веселый свет,
И речь веселая, и неизменно –
Во всех словах, во всех глазах – привет,
Для бедных странников нежданно ценный.
И много, много было – но всего
В экспромте этом рассказать нет силы…
Те дни прошли, погасли… Ничего!
Они прошли, но сердце не забыло.
1928
На Croisette
Зверенок на веревочке, с круглыми ушами,
С предлинным и претонким тельцем шерстяным,
Откуда и зачем ты явился между нами,
И как ты на веревочку попал – к чужим?
Не то чтоб обезьяна он; нисколько не кошка:
Ухватки не кошачьи, и лапочки не те.
Свистит протяжно-робко, сидит, поджавши ножки.
На собственном, смешном, на узеньком хвосте.
За что тебя обидели чужие напрасно?
Заставили покинуть родину твою?
Ты всё это расскажешь мне, свистом ясным,
Когда мы повстречаемся с тобой – в Раю.
Смотрю
Я сужен на единой Мысли,
Одно я вижу острие…
Ну что ж! Смотри, гадай и мысли,
Не отступай, – смотри в нее.
Я на единой Мысли сужен.
Смотрю в блистательную тьму…
И мне давно никто не нужен,
Как я не нужен никому.
В старом замке
Птичий всклик зеленой ночью
отрывисто-строгий,
лунный сверк зеленой ночью
креста при дороге…
Древнее молчанье
башен тяжелых.
Тень и молчанье
в бойницах полых.
И только сердце
не ищет покоя.
Слышу, как бьется сердце,
еще живое…
Хорошая погода
Травы, травы, тростники
На сухой вершине…
Почему бы тростники?
Ни ручья здесь, ни реки,
Вся вода в долине.
Небо каждый Божий день
Ровноголубое.
Почему бы каждый день?
И куда девалась тень?
Что это такое?
Для того, чтоб обмануть,
Свод небес так ясен.
Соблазнить и обмануть,
Убедить кого-нибудь,
Что наш мир прекрасен.
Не поддамся этой лжи,
Знаю, не забуду:
Мир кругом лежит во лжи…
Ворожи, не ворожи –
Не поверю чуду.
Жить
Как будто есть – как будто нет…
Умру наверно, а воскресну ли?
То будто тень – то будто свет…
Чего искать и ждать – известно ли?
Вот и живем, и будем жить,
Сомненьем жалким вечно жалимы.
А может быть, а может быть,
Так жить и надо, что не знали мы?
В новой