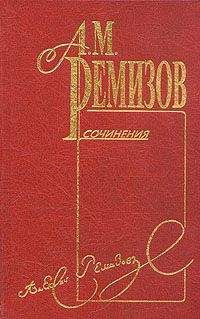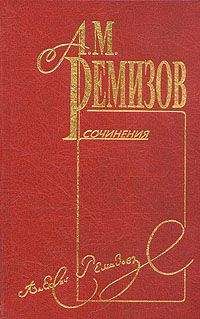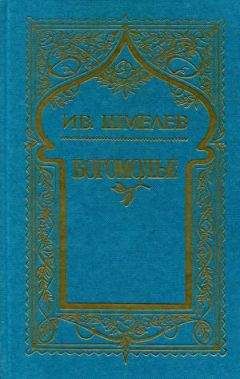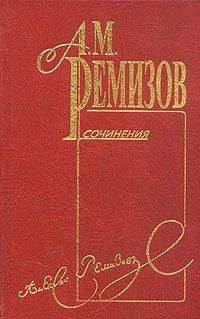Алексей Ремизов - Том 10. Петербургский буерак
«И тут совершилось»… как потом будет рассказывать Анна Николаевна чудесную историю – а совершилось такое, что и не во всяких «Житиях святых» найдешь.
И только что Пупыкин поддел Софью Семеновну под мышки, как позабывшая, что такое собственный ее голос, Софья Семеновна вдруг запела! – и весь дом от меховщика, «который меховщик съел своего кролика», до шляпницы, соседки Едрилы, затаился во внимании.
Евреинов думал это по радио. И только не мог сказать себе, какая из его знакомых знаменитостей.
И пока Пупыкин поддерживал Софью Семеновну, голос ее звучал, как там – тогда – тысяча лет назад в Москве в Большом Театре: это пела свою нежную и печальную песню из старины своей родины Гретхен:
Es war ein König in Thule,
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldenen Becher gab.8
Но как только руки Пупыкина от нее откачнулись и она спрыгнула с подоконника на пол, чары рассеялись – и она онемела.
И уж ей теперь, после лебединой ее песни, и самая несложная детская «Птичка» – «Ах, попалась птичка, стой»9 – не по горлу. И что странно, Пупыкин поддерживал ее сзади под мышки, лица его в минуту восторга она не видела, а между тем выпученные глаза его как бы закинулись за звезды и из звезд только они, без выпловка, иже-херувимы, пучились на нее неотступно. И когда, она жаловалась на бесцельность и бесполезную жизнь, что без голоса она чувствует себя «лишним человеком», где-то помимо ее воли выговаривалось в ней из самой глуби ее предмыслей, повторяясь: «Пупыкин».
Не свое, Софья Семеновна, словами Тургенева скажу вам о «лишнем человеке». Вы помните Тургенева? – «Во все продолжение моей жизни я постоянно находил свое место занятым… может быть, оттого что искал это место не там, где бы следовало»10.
И сам подумал:
«Гретхен без песни… и это правда, она не найдет себе места на свете». И я вспомнил нашу берлинскую хозяйку Frau Delion, в молодости конечно, Гретхен, и вот на наших глазах, безголосая, а вернее, на наших боках, расчетливая до невообразимости, превратилась она в «Нехе» (ведьму).
«Надо отыскать применение… та песня спета, на что-нибудь другое, но вы не можете быть “лишней”».
Она слушала, нет, она не понимала, но в ней выстукивало, в виске так дрожит: «Пу – пыкин – Пу-пыкин – Пу-пы-кин…».
Как-то на «алерт», спустившись в «абри» с Половчанкой, это уже при «расчистке», и оглянув «сидячих и стоячих», вдруг вспомнилась Гретхен: давно что-то не видно?
– Софья Семеновна, сказала Половчанка, в большой деятельности: продает масло и, представьте, с Пупыкиным! Я спрашиваю ее, когда будет всенощная, она такая богомольная, все знает. «Ничего не знаю, совсем в церковь не хожу, мне некогда!» И показала на сверток.
После отбоя я шел по нашей улице в русский ресторан за супом, навстречу Софья Семеновна… легка на помине! И узнать нельзя: шаг крепкий, уверенный, оживленная, – куда там, никак не скажешь: «лишний человек». И по два больших свертка под мышкой, в синюю сахарную бумагу завернуты. Я догадался: Пупыкино масло!
Wie anders, Gretchen, war dır’s,
Als du noch voll Unschuld
Hıer zum Altar tratst,
Aus dem vergrıffenen Buchelchen
Gebete lalltest,
Halb Kınderspiele,
Halb Gott ım Herzen
Gretchen!11
На пятом этаже Половчанка12. «Половчанка» прозвище, пошло от Евреинова. Евреинов – хозар: ему виднее – половцы ближе к хозарам, на исторических перепутьях встречались. Чернявая, но не Евреинской чернотой, а именно половецкой – с синью.
Она певица, но не Гретхен, а Кармен. Объехала всю Россию, побывала и в таких городах, где и показаться-то негде и в театр ходить считается грехом, на родине о. Матвея Константиновского и книгочея Якова Петровича Гребенщикова, во Ржеве и в соседнем Торжке известном по «Тарантасу»13 гр. Соллогуба. Много хранилось у нее всяких напетых пластинок и дисков, а как поедет из Полтавы в Париж, все растеряла. И остался один Шаляпин, да и того в починку не принимают, только что для покрышки.
Ученые историки и с ними наш медонский историограф Петр Евграфович Ковалевский думают так, что Андрей Боголюбский14 половчанин по матери, не без половецкого зуда разрушил Киев (1169 г.): придут татары, а брать будет нечего – камень на камне – хорошо распорядился.
У нашей Половчанки никаких разрушительных инстинктов, всякий знает: если нужно прошение в мэрию, в префектуру, к персептеру15 или в контроль, а также в газовое и электрическое общество, и вообще деловое письмо, и даже любовное (не слишком требовательное), подымайся на пятый, стучи к Половчанке, никогда не откажет.
Едрило хвастал, есть у него машинка – «сама сочиняет письма». Казалось, чего бы проще, зачем и беспокоить Половчанку, но смельчаков на такое механическое письмо не оказалось. Еще рассказывал Едрило о своем попугае: попугай «бегло» говорил по-французски и «наизусть» скажет без заминки «Выхожу один я на дорогу»16, а когда пришлось Едриле бежать из Петербурга от большевиков, попугай повесился над его покинутым письменным столом – в таком виде и нашли его при обыске. Возможно, этим попугаем Едрило и отпугнул: «пускай уж на простой машинке, но дело будет вернее!» – так рассуждая, подымались не под небеса к Едриле, а на пятый, к Половчанке.
И еще известна Половчанка по своему знаменитому брату. Он жил в нашем доме и только незадолго до войны переехал. А называется он «Железный»17 – определение одной из бесчисленных его поклонниц. Однажды за чаем у Половчанки, присоединившись к нему и так, что «утеснение» между ними оказалось самое пронзительное, она не могла тронуть его железное сердце. Железный поднялся и даже по-чижовски не переложил в кармане ключ. Он продолжал говорить тем точным бесстрастным голосом, каким говорят только юристы, объясняя и самые запутанные дела.
И до чего это странно: когда послушаешь такого, как Железный, все кажется так ясно и просто, на деле же всегда оказывается необыкновенно сложно. А объясняется это очень просто: есть юридические аксиомы – всегда какие-то само-собой-разумеющиеся условия – но кто же и когда говорит о самоочевидности. И вот эта недоговоренность для нас простых, не юристов, потерпевших или могущих потерпеть, отсекает всякие пути к цели, если попробовать действовать на свой страх, или запутывает дело и там, где и путать-то, казалось бы, нечего. Без всякого дела, я люблю слушать юристов: их рассуждения всегда действуют успокоительно, как решение задач и рисование.
«Железный» – если подвязать ему бороду, а на голову островерхий в звездах колпак, его можно поместить в любом Оракуле18, Календаре и Соннике, лучшего Волшебника не нарисуешь. В нем ничего от половецкого стана, а между тем Половчанка его родная сестра.
«Природа идет по-своему, а не по-нашему!» – вот что сказал бы небезызвестный Кузьма19.
А прославился Железный на весь Отой «зажигательным» студнем, подлинно Волшебник.
Затеял Железный с П. Н. Переверзевым хозяйством заняться и взялись они студень варить. Бухнул Железный в «бучило» – другой подходящей посуды нет в хозяйстве – двенадцать бычачьих ножек, а меры и не знает, сколько на варку. Понадеялся на Переверзева: министр! А Переверзеву тоже впервые. «Да, долго, говорит, варится, не одна ножка, а дюжина». Да еще и поспорили. Переверзев по-московски «студень», а Железный – полтавский, «холодцом» называет. По Железному, – и откуда он это взял? – «нормальный холодец» вываривается в неделю. «У вас, Константин Данилыч, ваш нормальный холодец вываривается в неделю, Переверзев нетерпеливо поправил очки, а наш обыкновенный московский студень, по крайней мере, с месяц, помню с детства, каждый вечер к ужину подавали студень с хреном». – «А почему вы, Павел Николаевич, все говорите бычачьи ножки, хороши же у быка ножки!» поддел Железный. Но Переверзев ничего не ответил в самом деле, неужто он сказал «ножки»? Бучило поставили на радиатор. Прошла неделя. Видят готово, все косточки и хрящики выварились, пальцем не поддеть никакую бабку. Дали остыть. И получилось – что-то вроде лошадиного клею. На тарелку попробовали – не вылезает; взялись ножом – нож не берет. Хоть молотком впору. И какой-то дух пошел копытный и еще чем-то, «неразложимым» – «неподдающееся никакому химическому анализу», как выразился сосед по проникновению. «Ешьте сами, Константин Данилыч, сказал Переверзев, а я ваш этот холодец есть не буду. Двенадцать пар бычачьих ног ухлопали!» И когда Железный остался один, он вынул из бучила несколько кусков – тверже камня, такая крепость! – завернул в газету, взял секачку и принялся рубить, и рубил кусок за куском, разрубая на мелкие кусочки – миллионы блестинок сверкали под секачкой. И вдруг, как от спички вспыхнула газета.