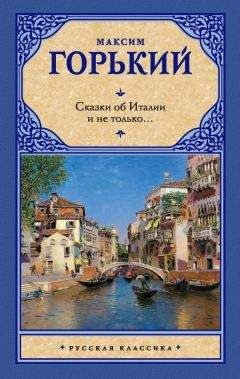Максим Горький - Сказки об Италии
– Да, так вот этот ветер и ударил нас в четырех километрах от берега – совсем близко, как видите, ударил неожиданно, как трус и подлец.
– «Гвидо! – сказал родитель, хватая весла изуродованными руками. – Держись, Гвидо! Живо – якорь!»
– Но пока я выбирал якорь, отец получил удар веслом в грудь – вырвало весла из рук у него – он свалился на дно без памяти. Мне некогда было помочь ему, каждую секунду нас могло опрокинуть. Сначала – всё делается быстро: когда я сел на весла – мы уже неслись куда-то, окруженные водной пылью, ветер срывал верхушки волн и кропил нас, точно священник, только с лучшим усердием и совсем не для того, чтобы смыть наши грехи.
– «Это серьезно, сын мой! – сказал отец, придя в себя и взглянув в сторону берега. – Это – надолго, дорогой мой».
– Если молод – не легко веришь в опасность, я пытался грести, делал всё, что надо делать в воде в опасную минуту, когда этот ветер – дыхание злых дьяволов – любезно роет вам тысячи могил и бесплатно поет реквием.
– «Сиди смирно, Гвидо, – сказал отец, усмехаясь и стряхивая воду с головы. – Какая польза ковырять море спичками? Береги силу, иначе тебя напрасно станут ждать дома».
– Бросают зеленые волны нашу маленькую лодку, как дети мяч, заглядывают к нам через борта, поднимаются над головами, ревут, трясут, мы падаем в глубокие ямы, поднимаемся на белые хребты – а берег убегает от нас всё дальше и тоже пляшет, как наша барка. Тогда отец говорит мне:
– «Ты, может быть, вернешься на землю, я – нет! Послушай, что я буду говорить тебе о рыбе и работе…»
– И он стал рассказывать мне всё, что знал о привычках тех и других рыб, – где, когда и как успешнее ловить их.
– «Может быть, нам лучше помолиться, отец?» – предложил я, когда понял, что дела наши плохи: мы были точно пара кроликов в стае белых псов, отовсюду скаливших зубы на нас.
– «Бог видит всё! – сказал он. – Ему известно, что вот люди, созданные для земли, погибают в море и что один из них, не надеясь на спасение, должен передать сыну то, что он знает. Работа нужна земле и людям – бог понимает это…»
– И, рассказав мне всё, что знал о работе, отец стал говорить о том, как надо жить с людьми.
– «Время ли теперь учить меня? – сказал я. – На земле ты не делал этого!»
– «На земле я не чувствовал смерть так близко».
– Ветер выл, как зверь, и плескал волны – отцу приходилось кричать, чтобы я слышал, и он кричал:
– «Всегда держись так, как будто никого нет лучше тебя и нет никого хуже, – это будет верно! Дворянин и рыбак, священник и солдат – одно тело, и ты такой же необходимый член его, как все другие. Никогда не подходи к человеку, думая, что в нем больше дурного, чем хорошего, – думай, что хорошего больше в нем, – так это и будет! Люди дают то, что спрашивают у них».
– Это, конечно, было сказано не сразу, а так, знаете точно команда: нас бросало с волны на волну, и то снизу, то сверху сквозь брызги воды я слышал эти слова. Многое уносил ветер раньше, чем оно доходило до меня, многого я не мог понять – время ли учиться, синьор, когда каждая минута грозит смертью! Мне было страшно, я первый раз видел море таким бешеным и чувствовал себя столь бессильным в нем. И я не могу сказать – тогда или после, вспоминая об этих часах, я испытал чувство, которое и по сей день живо в памяти моего сердца.
– Как теперь вижу родителя: он сидит на дне барки, раскинув больные руки, вцепившись в борта пальцами, шляпу смыло с него, волны кидаются на голову и на плечи ему то справа, то слева, бьют сзади и спереди, он встряхивает головою, фыркает и время от времени кричит мне. Мокрый он стал маленьким, а глаза у него огромные от страха, а может быть, от боли. Я думаю – от боли.
– «Слушай! – кричал мне. – Эй – слышишь?»
– Иногда я отвечал ему:
– «Слышу!»
– «Помни – всё хорошее от человека».
– «Ладно!» – отвечаю я.
– Никогда он не говорил так со мною на земле. Был веселый, добрый, но мне казалось, что он смотрит на меня насмешливо и недоверчиво, что я для него еще ребенок. Иногда это обижало меня – юность самолюбива.
– Его крики укрощали мой страх, должно быть, поэтому я так хорошо помню всё.
Старик рыбак помолчал, поглядел в белое море, улыбнулся и сказал, подмигнув:
– Приглядевшись к людям, я знаю, синьор, помнить – это всё равно, что понимать, а чем больше понимаешь, тем более видишь хорошего, – уж это так, поверьте!
– Да, так вот – помню я его милое мне мокрое лицо и огромные глаза – смотрели они на меня серьезно, с любовью, и так, что я знал тогда – мне суждено погибнуть не в этот день. Боялся, но знал, что не погибну.
– Нас, конечно, опрокинуло. Вот – мы оба в кипящей воде, в пене, которая ослепляет нас, волны бросают наши тела, бьют их о киль барки. Мы еще раньше привязали к банкам всё, что можно было привязать, у нас в руках веревки, мы не оторвемся от нашей барки, пока есть сила, но – держаться на воде трудно. Несколько раз он или я были взброшены на киль и тотчас смыты с него. Самое главное тут в том, что кружится голова, глохнешь и слепнешь – глаза и уши залиты водой, и очень много глотаешь ее.
– Это тянулось долго – часов семь, потом ветер сразу переменился, густо хлынул к берегу, и нас понесло к земле. Тут я обрадовался, закричал:
– «Держись!»
– Отец тоже кричал что-то, я понял одно слово:
– «Разобьет…»
– Он думал о камнях, они были еще далеко, я не поверил ему. Но он лучше меня знал дело, – мы неслись среди гор воды, присосавшись, точно улитки, к нашей кормилице, порядочно избитые об нее, уже обессиленные и онемевшие. Это длилось долго, но когда стали видны темные горы берега – всё пошло с невыразимой быстротой. Качаясь, они подвигались к нам, наклонялись над водой, готовые опрокинуться на головы наши, – раз, раз – подкидывают белые волны наши тела, хрустит наша барка, точно орех под каблуком сапога, я оторван от нее, вижу изломанные черные ребра скал, острые, как ножи, вижу голову отца высоко надо мною, потом – над этими когтями дьяволов. Его поймали часа через два, с переломанной спиною и разбитым, до мозга, черепом. Рана на голове была огромная, часть мозга вымыло из нее, но я помню серые, с красными жилками, кусочки в ране, точно мрамор или пена с кровью. Изуродован был он ужасно, весь изломан, но лицо – чисто, спокойно, и глаза хорошо, плотно закрыты.
– Я? Да, я тоже был порядочно измят, на берег меня втащили без памяти. Нас принесло к материку, за Амальфи[28] – чуждое место, но, конечно, свои люди – тоже рыбаки, такие случаи их не удивляют, но делают добрыми: люди, которые ведут опасную жизнь, всегда добры!
– Я думаю, что не сумел рассказать про отца так, как чувствую, и то, что пятьдесят один год держу в сердце, – это требует особенных слов, даже, может быть, песни, но – мы люди простые, как рыбы, и не умеем говорить так красиво, как хотелось бы! Чувствуешь и знаешь всегда больше, чем можешь сказать.
– Тут всё дело в том, что он, мой отец, в час смерти, зная, что ему не избежать ее, не испугался, не забыл обо мне, своем сыне, и нашел силу и время передать мне всё, что он считал важным. Шестьдесят семь лет прожил я и могу сказать, что всё, что он внушил мне, – верно!
Старик снял свой вязаный колпак, когда-то красный, теперь бурый, достал из него трубку и, наклонив голый, бронзовый череп, сильно сказал:
– Всё верно, дорогой синьор! Люди таковы, какими вы хотите видеть их, смотрите на них добрыми глазами, и вам будет хорошо, им – тоже, от этого они станут еще лучше, вы – тоже! Это – просто!
Ветер становился всё крепче, волны выше, острее и белей; выросли птицы на море, они всё торопливее плывут в даль, а два корабля с трехъярусными парусами уже исчезли за синей полосой горизонта.
Крутые берега острова в пене волн, буяня, плещет синяя вода, и неутомимо, страстно звенят цикады.
XIII
В день, когда это случилось, дул сирокко, влажный ветер из Африки – скверный ветер! – он раздражает нервы, приносит дурные настроения, вот почему два извозчика – Джузеппе Чиротта и Луиджи Мэта – поссорились. Ссора возникла незаметно, нельзя было понять, кто первый вызвал ее, люди видели только, как Луиджи бросился на грудь Джузеппе, пытаясь схватить его за горло, а тот, убрав голову в плечи, спрятал свою толстую красную шею и выставил черные крепкие кулаки.
Их тотчас розняли и спросили:
– В чем дело?
Синий от гнева, Луиджи крикнул:
– Пусть этот бык повторит при всех, что он сказал о моей жене!
Чиротта хотел уйти, он спрятал свои маленькие глаза в складках пренебрежительной гримасы и, качая круглой черной головой, отказывался повторить обиду, тогда Мэта громко сказал:
– Он говорит, что узнал сладость ласк моей жены!
– Эге! – сказали люди. – Это – не шутка, это требует серьезного внимания. Спокойствие, Луиджи! Ты здесь – чужой, твоя жена – наш человек, мы все тут знали ее ребенком, и если обижен ты – ее вина падает на всех нас, – будем правдивы!