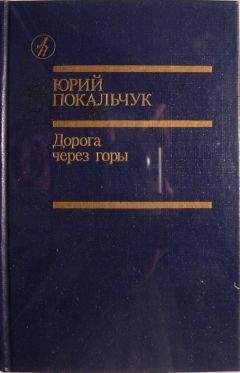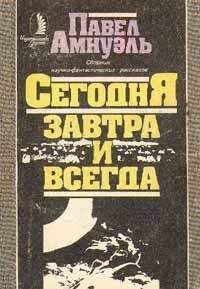Зинаида Гиппиус - Том 2. Сумерки духа
Из левого угла вдруг на всю залу раздался заунывный, надмогильный голос, выкрикивавший с печалью имена станций, куда отходил поезд. Голос раздавался, как в церкви, и уходил под своды.
Круглые часы над буфетом показывали шесть часов двадцать минут. Через пять минут пришел где-то, на дальнюю платформу, поезд из Гогенвальда. Шадров ждал, не двигаясь с своего места. Тут она скорее его найдет. Пассажиры нахлынули черной волной, которая, сначала густая, понемногу редела. Маргарет между ними не было. Дмитрий Васильевич знал ее дорожное платье: светло-серое, с длинной, свободно, по-мужски, сшитой кофточкой и короткой юбкой. Он даже уверял, что кофточку следует обрезать, что такая длинная не идет к ее маленькому росту и виду пятнадцатилетней девочки. Шляпа, он знал, круглая, соломенная, с черной лентой. И красная сумочка в руках.
Он встал, прошелся по зале, заглянул на бесконечную, крытую стеклом платформу. Там уже серело, свет был какой-то паучий. Маргарет не было. Из угла опять застонал человек в форме, выкрикивая другие названия. Очевидно, она не приехала с этим поездом.
К Дмитрию Васильевичу подошел лакей и спросил, подавать ли кушать. Следующий поезд из Гогенвальда приходил только в семь часов сорок две минуты, как раз к берлинскому. Но, значит, все равно: Маргарет не успеет пообедать.
Он поел один, стараясь не торопиться, так как времени было еще много. Выпил сам немного красного вина. Подумал, не взять ли газету, но хотя в зале и зажгли электричество, читать было бы трудно. В окна галереи смотрел еще светлый вечер.
Шадров сказал Маргарет, что если почему-нибудь (может же случиться!) она приедет с поездом не в шесть часов, а в семь сорок две, то пусть она прямо переходит на платформу к берлинскому поезду, что он будет ее ждать у спального вагона.
И потому, когда человек в каскетке проревел между прочими названиями «Berlin», люди кругом засуетились и залепетали, а носильщик Дмитрия Васильевича пришел за его вещами, он спокойно сказал номер купе и пошел за носильщиком.
У вагона толпились люди, не очень много, но все суетливые и злые. Над вагонами светило сумеречное небо, медленно меркнущее там, где кончался стеклянный навес.
Шадров посмотрел на часы и удивился: было уже семь часов сорок девять минут. Значит – поезд из Гогенвальда уже здесь, значит – она сейчас придет.
Он стал пристально смотреть на решетку, по направлению другой платформы, откуда шли пассажиры.
Люди все шли, а ее не было. Он опять посмотрел на часы, поморщился, как человек, которому скучно, и сказал себе, вслух:
– Какая досада! Опоздала! Билеты пропадут. Надо, однако, позвать носильщика, вынести вещи назад.
И сам прислушался к своим словам. Конечно, это только досадно. Ведь ничего же не могло случиться.
Опять шли люди, толкались и проходили. Но вот, кажется… Да, вот она. Шляпа с черной лентой, серое платье. Наверно она, вот и красная сумочка в руках. Маргарет торопилась и оглядывалась. Шадров пошел к ней навстречу.
– Наконец-то! – сказал он громко. – Ты опоздала на шестичасовой… Маргарет?
У нее было странное, сосредоточенное лицо, очень бледные губы. Глаза не смотрели на него, а мимо, точно она его не видела. Глаза были без мысли, темные, как ночное небо.
– Постой, послушай, – сказала она, взяла его за руку и зачем-то подвела к самому вагону. – Послушай. Я теперь не могу с тобой ехать. Я после приеду.
– Что? Не можешь? Я не понимаю, о чем ты говоришь.
– Я с тобой не поеду теперь. Я думала… И видишь ли: я была на почте… Нельзя же было так уехать! И вот письмо. От мистера Стида. Давно уже лежало там. И другое. Он болен, я так и думала. Он здесь, во Франкфурте. Я должна его видеть. Он говорит мне все, он мне напоминает, что когда-то спас мне жизнь… Говорит, что мой долг увидеть его еще раз… что я не могу отказать… Не имею права… И я чувствую, что не могу быть нечестной. Вот… вот… посмотри.
Она неловко, торопясь, маленькими, детскими ручками стала открывать красную сумку, открыла, порылась там, взяла какую-то бумажку, развернула, хотела, верно, чтоб он прочел, но читать было некогда, да и нельзя, потому что ночь почти совсем надвинулась. Белый листок праздно дрожал в ее пальцах.
Дмитрий Васильевич еще не понимал, но ледяная волна прошла по его телу, сердце стукнуло громко и властно.
Он взял ее за руку, до боли сжал эту худенькую ручку и хотел, почти не соображая, заставить Маргарет войти на ступеньки вагона.
Но она вскрикнула и освободилась с недетской силой, почти со злобой.
– Оставь меня! Я сказала тебе, что не могу, не могу теперь! Я приеду. Я через два дня приеду.
– Маргарет… – начал он, не зная, что говорит. – Маргарет, вспомни…
– Я все помню, все! Но неужели ты не видишь… Господи, за что… так тяжело…
Он близко взглянул в ее глаза – и отступил. В них была такая мука, такое страдание, темное, но страшное, какого он еще никогда не видел в человеческих глазах.
Она закинула ему руки на плечи и поцеловала его. Он почувствовал ее холодные, дрожащие губы на своих губах.
– Прощай. Уезжай. Я приеду, приеду… Я тебя люблю… Пожалей… Или нет. Люби меня, как я люблю. Я не могу… Я ничего не знаю.
Кондуктор бежал, затворяя дверцы вагонов. Шадров поднялся на ступеньки. Маргарет, маленькая, со странными, мучительными глазами, вся серая, мутная в сером мраке, со своей сумочкой на руке, двинулась было за ним, что-то сказала еще – он услышал только звук голоса, горестный, оборванный – и тотчас же платформа и Маргарет поплыли в сторону, левее, еще левее, вот уже едва видно серое, маленькое пятно, – оно движется, но не поспевает, и все дальше и туманнее… Вот уже и совсем нет. Бесчисленные огненные нити искр, желтые, живые и длинные, разрезали воздух. Они пронеслись со свистом и скрылись. Поезд мчался вперед, и кругом стало темно, как под землей.
VIIIВ Петербурге апрель и май были солнечные, но с июля пошли дожди и лило не переставая. К концу июля воздух, небо и земля впитали в себя уже всю сырость, какую могли, и больше не хотели воды, но дождь не унимался; облака, серые, ровные и плотные, так же низко плыли, все так же неспешно и упорно роняя серую, холодную воду.
Черная грязь тяжело налипала на колеса, когда Шадров ехал в тележке домой, к себе на дачу, с одной из недалеких станций Варшавской дороги. В Петербург он заехал всего на несколько часов, побыл недолго в опустевших квартирах, взял кое-какие нужные ему книги и поспешил на дачу.
Он вошел через балкон прямо в столовую. Там уже горела над столом лампа, – от дождя свечерело рано.
Марья Павловна, в своей широкой ситцевой кофте, с гладко причесанными темными волосами, с румяными, как всегда, щеками, стояла у стола и что-то кипятила на бензинке. Бензинка шипела и ровно и тихо гудела, точно мурлыкала.
На стук двери Марья Павловна подняла голову.
– Батюшки! Дмитрий Васильевич! Приехали вы наконец! И как неожиданно: ни строчки ведь от вас не было. Что, кушать хотите? Чаю? Сейчас все будет. Извозчик-то внесет, что ли, вещи? Я Анисью позову, да пойду с вами наверх. Там у вас все готово, давно ведь вас ждали, – только лампы зажечь. Молоко-то бы у меня не убежало.
Она заботливо притушила бензинку и, легко и весело ступая, пошла за Дмитрием Васильевичем наверх.
Наверху, где жил Дмитрий Васильевич, было три комнаты в ряд. Средняя, с дверью на балкон, казалась низкой, потому что была довольно просторна. Желтые обои на стенах, большой диван в тиковом чехле, стол посредине, длинный письменный стол в углу, около окна. Правая, маленькая, комната была спальня, левая, такая же маленькая, стояла пустая, всегда темная.
Марья Павловна ловко и быстро развязывала чемоданы.
– Вот, слава Богу, дождались мы вас. Да что вы, Дмитрий Васильевич, точно нездоровы? Устали, верно, с дороги, – прибавила она поспешно и успокоительно, прежде чем он ответил, и с доброй улыбкой посмотрела на него.
– А где же Ваня? – спросил Шадров.
– Ваня? Да все еще там, в больнице. Мой грех, мой грех, что и говорить! Ну, он поправляется.
Она засмеялась.
Дмитрий Васильевич взглянул удивленно.
– Да ведь я ж вам писала… Ах, ты, батюшки, Анисья зовет1 Ну, теперь вам все здесь готово. Внизу сейчас кушать подадут. К мамаше-то зайдите.
В столовой, под лампой, уже накрыли. Марья Павловна, вероятно, была в кухне. Дмитрий Васильевич подошел к двери налево, где была комната матери, прислушался и осторожно вошел.
Маленькая ночная лампочка давала тенистый полусвет. Было тепло, вероятно натоплено, пахло знакомым деревом старинной, через долгое время открытой, шкатулки и лекарствами. На большой кровати, у стены, налево, лежала Анна Ниловна, высоко на подушках. На ней не было чепчика; полуседые, серые волосы разделялись, гладко причесанные, прямым и широким рядом. Подойдя ближе, Дмитрий Васильевич увидел, что она не спит, – глаза ее были открыты. Шадрову показалось, что губы у нее очень ввалились и лицо стало темнее. Он приблизился, сел на край постели и взял худую, коричневую руку, лежавшую поверх одеяла. Рука эта еще слабо шевелила пальцами с плохо сгибающимися суставами, точно продолжала свивать несуществующую тесемку.