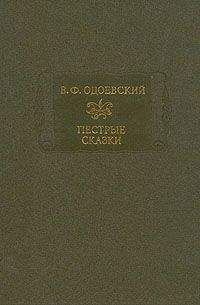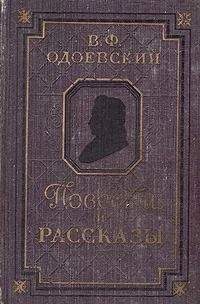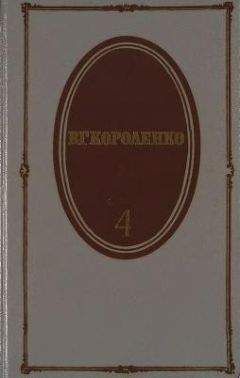Владимир Одоевский - Записки для моего праправнука (сборник)
Человеку должно знать не одно прошедшее, забывая о настоящем; равным образом ему не должно знать одного будущего, забывая о настоящем. Знание и сообразование с одним прошедшим ввергает человека в летаргию; знание и сообразование с одним будущим ведет к беспредметной деятельности и, следственно, вредной, ибо вред в некотором смысле есть не что иное, как следствие деятельности, направленной к цели, отдаленной от настоящего момента. Представитель прошедшего есть наука, представитель будущего — поэзия; представитель настоящего — безотчетное верование. Без сего ощущения человек не решился бы сделать ни шага, ни вымолвить слова; оно действует независимо от его воли, иногда в одежде науки или поэзии, но оно одно дает значение и характер науке и поэзии данной эпохи. Посему одна из главных причин каждого действия человека есть такое ощущение, которое ему вовсе не понятно. Это ощущение соединяет для него прошедшее и будущее в один момент, который однако же не есть ни прошедшее, ни будущее. Из сего открывается необходимость для человека сознавать себя в настоящую минуту, знать свой возраст и положение — и по сему образовать для себя свою науку и свое искусство. Тогда, когда каждый индивидуум будет знать звук, который он должен издавать в общей гармонии, тогда только будет гармония. Разумеется, наука может быть пиитическою, т. е. предугадывать будущее, поэзия может быть ученою, т. е. восстанавливать прошедшее (Шекспир, Данте); но верование всегда останется представительницею текущего времени; может быть, лишь сим путем человек может постигнуть сигнатуру того момента, в котором находится человечество в системе миров, где есть свои времена года, свои весна, лето и осень.
* * *В Хили (Memorial Encyclopedique, 1834, № 2) открыли следы города, носящего признаки образованности, не могшей существовать между туземцами. Вопрос, какие были это народы? — может быть, не столько любопытен, сколько следующий: как потерялась образованность этого народа, потерялась так, что даже не осталось ни одного памятника, который бы о нем свидетельствовал? Может быть, на этот вопрос можно отвечать, только представив себе, что бы случилось (и что может случиться) с Европой, если бы только одна наука, одно образование разума завладело ею. Спрашивается: неужели во время падения этих народов не являлись люди, одаренные силою духа, могшие остановить их над пропастью. Были, но или голос их проповедовал в пустыне, или, оскорбленные всем виденным, они углублялись в самих себя, оставляя людей их собственной участи, или, наконец, измученные тщетным борением, умирали, не дойдя до половины пути жизни, так что им почти физически невозможен был этот преступный воздух для дыхания. Горе тому народу, где рано умирают люди высокого духа и живут долго нечестивцы! Это термометр, который показывает падение народа. Пророки умолкают!
* * *Одно материальное просвещение, образование одного рассудка, одного расчета, без всякого внимания к инстинктуальному, невольному побуждению сердца, словом, одна наука без чувства религиозной любви может достигнуть высшей степени развития. Но, развившись в одном эгоистическом направлении, беспрестанно удовлетворяя потребностям человека, предупреждая все его физические желания, она растлит его плоть победит дух (сего-то и боится религия); мало-помалу погружаясь в телесные наслаждения, человек забудет о том, что произвело их; пройдет напрасно время, в которое бы человек должен был двинуться далее; но в природе не даром летит это время; природа, покорная (без свободной воли) вышним судьбам, совершит путь свой и вдруг явится человеку с новыми, неожиданными им силами, пересилит его и погребет его под развалинами его старого обветшалого здания! Такова причина погибели стольких познаний, которыми древние превышали новейших. Так будет и с нами, если религиозное чувство бескорыстной любви не соединится с нашим просвещением.
Так погибла мудрость народов безымянных, мудрость индийская, египетская, греческая, римская! Тщетно мы берем себе в образец мудрость древних. Очарование, произведенное древними рукописями в средние века, много остановило успехи человечества; оно заставило его жить умом прошедшего вместо того, чтобы жить умом будущего. Против сей-то тщеславной мудрости восставало христианство, сию-то мудрость неверие XVIII века противопоставило христианству. Едва ли и XIX веку суждено освободиться от оков прошедшего, от его детского платья, в котором связаны все его движения. Если со вниманием рассмотреть все несчастья нынешнего общества, то найдем, что основанием каждого из них есть какая-нибудь мысль древней мудрости, от ветхости времени опростонародившаяся. Если перенести героев древних во всей их полноте в наше время, они были бы величайшими злодеями, а наши преступники были бы героями древности.
Предметы истины, сказал некто, имеющие цель естественную, в продолжение времени совершенствуются, а не искажаются, и чем более для них прошло времени, тем с большею силою должны развиваться их красота, величие и простота — или, лучше сказать, тем ближе они должны находиться к чистым и живым законам той первой идеи, которую должны выражать все существа, каждое на своей степени. С этой-то точки зрения должно смотреть на науки и искусства, дабы видеть, которые из них на прямом пути, которые совратились.
Посмотрим же, какие знания могли быть у древних; я говорю не о тех знаниях, о которых сведения сохранились для нас в отрывках греков и римлян, не о тех, о которых воспоминание сохранилось в так называемых баснословных преданиях древности.
Уже давно истребилось мнение, что иносказания были выдумкой стихотворцев; иные думали в них видеть оболочку искусства, земледелия (Курт Жебелин); иные ближе были к истине, отыскивая в иносказаниях сокровеннейшие тайны физической части вселенной (Пернетти и другие герметические философы). Но все эти объяснения противны законам ума человеческого. Возможно ли высшими предметами прикрывать низшие? Брать божество, человека для прикрытия посева грубых семян или[141] метаморфоза минералов. Мы всегда облекаем лишь самые отвлеченные понятия в чувственную оболочку для того, чтобы их сделать осязаемыми, — мы духовному придаем вещественный образ; так должно было быть и в древних иносказаниях, сохранившихся у всех народов, разделенных далекими пространствами и между тем всегда в главных положениях, сходных между собою.
Что всего яснее видим мы в сих иносказаниях? Божество, снисходящее в человека, человека, возвышенного до степени божества, — словом, необычайную, непонятную нам силу человека. Здесь титаны, воюющие с небом; здесь Сатурн, отец богов, царствующий на земле; Прометей, похищающий божественный огонь; каким образом могли бы войти в голову человека все эти иносказания о подобной силе человека, если бы действительные предания не скрывались под ними? С ослаблением инстинктуальной силы усиливалась рациональная. Пока не укрепилась сия последняя, человечество жило произведениями своей инстинктуальной силы; знание о сатур-новом кольце прежде телескопа, эластическое стекло — суть остатки сих инстинктуальных знаний; велики были они, и в сем смысле древние знали больше нашего. Ослабевая постепенно, инстинкт исчез совершенно в конце древнего мира, и рассудок, оставленный самому себе, мог произвести лишь синкретизм; дальше сего он не мог идти; род бы человеческий погиб, как погибли безымянные народы, если бы в то же время не возбудился новый инстинкт человека. Тогда инстинкт был привит к грубому произведению природы, теперь — к человеку, развившемуся во внешность силою собственной воли, тогда к сомнамбулу, ныне к бодрствующему. Раннее прядение шелка из паутины шелковых червей в восточной Азии предполагает высокую образованность, там некогда существовавшую. Вообразите себе все ступени, которые дoлжно было пройти для того, чтобы заметить этих червей, уметь их воспитывать, приуготовлять кокон, потом вообразить, что их паутина может образоваться в нить. Это остаток, свидетельствующий о многоразличных знаниях.
Есть лета в жизни человека, в продолжение которых он живет, что говорится, наудалую, делает, что ему на ум взбредет, не спит по ночам, предается всем порывам страстей, не брежет ни о своем спокойствии, ни о здоровье — и между тем все ему сходит с рук; он и здоров, и бодр; желудок его варит, он деятелен, даже как будто и все дела его ему лучше удаются, по крайней мере он все потери переносит с большой беззаботностью; такой человек живет настоящим и не думает о будущем, и так может он прожить лет до 30-ти или до 40-ка, смотря по его организации. С 5-м десятком здоровье его начинает расстраиваться, деятельность и бодрость его уменьшаются, уменьшается с тем вместе и вера в самого себя — и оттого перестают для него удачи. В это время он должен жить уже искусственной жизнью, он не может уже приобретать здоровья, но, пользуясь своею прежнею опытностью, лишь поддерживает его; его друзья, помнившие его прежнюю силу и потому верившие в него, один за другим умирают — ему надобно одному лавировать между скалами жизни; сокровище знаний сделается ему недоступным, а может, он только вспоминает о них; если же он в продолжение своего возвышающегося периода расстроил свое тело и душу, наполнил тело семенами болезней, душу растлил до вещества, сердца не облагородил терпимостью и любовью к людям — грехи его скопляется над ним, как грозная туча, вянет его ум, терзается тело, скучает сердце — и он или быстрее погибает, или незаметно доходит до последней степени унижения.