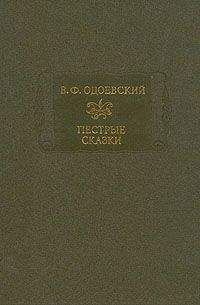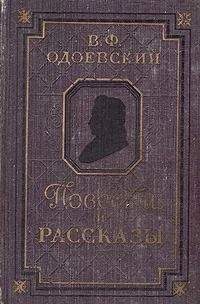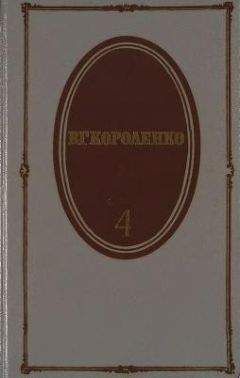Владимир Одоевский - Записки для моего праправнука (сборник)
От этого нынче у нас нет и быть не может людей, исключительно посвящающих себя искусству. Да и когда нам? нам некогда! Оттого у нас считается литератором тот, кто напишет пару стихов, пару романов, переведет водевиль или хорошо переводит газетные известия — точно так же; как в наших деревнях, кто умеет читать по складам, называется грамотным. Что в старых землях умеет делать всякий образованный человек, то у нас оценивается как произведение художника; тысяча первый английский турист, тысяча первый доцент, разъезжающий по провинциям для чтения того, чего набрался у других, был бы у нас не только литератором, но еще известным литератором, и, чего доброго, претендовал бы на диктаторство в нашей литературе! Есть люди, которые пишут даже краткие и пространные истории нашей литературы, как будто она имеет какой-нибудь характер, какую-нибудь самобытность и как будто все, что мы можем назвать литературою, не суть занятия в свободное время двух-трех человек с талантом. Мы смеемся над Клапротом, который написал грамматику лезгинцев и кабардинцев, — пошлите туда некоторых из наших журналистов, они и там отыщут для себя место в истории литературы.
Исторический период, в котором мы находимся, производит еще особенную черту в нашей литературе: подражание. Наш народный характер, наша государственная жизнь, место, занимаемое нами на земном шаре, — все это так огромно, так полно силы и поэзии, что не может вместиться в литературу; оттого мы пропускаем себя мимо и глядим лишь на других. Это скромное чувство подражание так далеко у нас простерлось, что иностранцы принялись уверять, будто бы мы лишены всякого творчества. Некоторые, хотя немногие, произведения нашего времени дойдут и до тебя, мой любезный праправнук, и тогда ты увидишь несправедливость этого осуждения. Нет! мы не лишены творчества; оно, напротив, сильнее у нас, нежели у других народов, но оно в зародыше; нашей литературе (за немногими исключениями), как я сказал выше, недостает отличительного характера, физиономии. Ты узнаешь немецкую страницу по глубокомыслию, английскую по юмору, французскую по остроумию — по каким признакам ты угадаешь русскую страницу?.. Ты улыбаешься, любезный праправнук, потому что ты видишь в русской странице соединение всего того, что разменено для других народов на мелкую монету; ты видишь ясно, что наше мнимое подражание было только школою, вышедши из которой, мы перегнали учителей. Но это видишь ты, а не мы; для нас многие, весьма многие русские страницы богаты лишь отрицательными признаками.
От этого нет у нас сочувствия между жизнию и литературою; литературные вопросы, распри, открытия — все это не касается до нелитераторов; даже иной и литератор разделяется на две половины, из которых одна смеется над другою; что делается в литературе, того не знают в свете. Что делается в свете, о том не знает литература; в гостиной постыдишься сказать ту мысль, от которой поутру вспрыгнешь на стуле; гостиное происшествие, которое, развиваясь, может изменить все светские условия, сокрыто от литератора; к чему он приготовляется ежедневно, того избегает в свете; что пишется в наших книгах, то в книгах и остается; между наукою, и жизнию, между литературою и жизнию, между поэзией и жизнию — целая бездна. И каждая половина развилась своим особым образом и получила свои законы, свои условия, свой язык, и между тем обе живут вместе, как два расстроенные инструмента у глухих музыкантов — знай играют! Оттого и слышится такая чудная гармония, что хоть вон беги. Подите, растолкуйте им, что литература и жизнь, как в порядочном доме кабинет и гостиная — две необходимые вещи в бытии человечества, что одна не может быть без другой; отделить совершенно литературу от его жизни и его жизнь от литературы все равно, что в дождливую ночь вынести фонарь без свечи или свечу без фонаря. Поставьте, господа, свечку в фонарь! Покройте, господа, фонарем свечку!.. Нечего насмехаться над теми, которые бы хотели навести мост над бездною! Ведь мы приближаемся — знаете, к чему? Мы приближаемся к исторической древности; мы приближаемся к ней по той же причине, почему поэт в минуту сильнейшего развития своей организации находит в душе своей чувства младенца! А воскресите Платона: скажите, что он не должен выезжать на площадь или ораторствовать у Латы, — он засмеется, как наши потомки будут смеяться над нашею двуличневою жизнию, как мы смеемся над теми веками, когда ученые запирались в монастыри, когда ученые почитали за стыд писать на другом языке, кроме латинского… Впрочем, далеко еще до этого времени — далеко! и этому есть преважная причина: наши гостиные — род Китая. Говорят, в этом чудном царстве этикет так хорошо устроен, что богдыхан не может сделать никакого ни в чем улучшения потому только, что все минуты его жизни заранее рассчитаны по церемониалу. В наших гостиных существует подобный церемониал: он состоит не в том только, как думают наши описатели нравов, чтоб беспрестанно кланяться, шаркать, ощипываться, доказывать, что вы не человек, а франт, — нет, существует другой церемониал, для меня, по крайней мере, самый тягостный и который я почитаю главным препятствием совершенствования гостиных, — это обязанность говорить беспрерывно и только о некотором известном числе предметов; далее этого круга не смейте выходить, — вас не поймут. Ничто на свете не может сравниться с этим терзанием. Вы огорчены, в голове у вас бродит поэтическое видение, на вас просто нашел столбняк, — нет нужды! вы должны говорить; вы должны выжать разговор из кенкета, из партии виста, из листа, бумаги, не более… Тут будь хоть Гете или Гумбольдт — не вытерпишь, изговоришься и скажешь плоскость; и самому стыдно, и совестно, и досадно, а еще растягиваешь ее, вертишь ее во все стороны, как червяка под микроскопом, и все говоришь, говоришь… Этот проклятый церемониал забежал к нам из французских гостиных; французу хорошо — у него разговор вещь совершенно посторонняя, внешняя, как вязальный чулок; у него все под руками: и спицы, и нитки, и петли; заведет механику в языке, и пойдет работа, говорит об одном, думает о другом, спрашивает одно, отвечает другое. Такая механика не по нашему духу; мы полуазиатцы, мы понимаем наслаждение в продолжение нескольких часов сидеть друг против друга, курить трубку и не говорить лучше ни слова, нежели нести всякий вздор о предметах, которые вас не занимают.
А что же делает литература, чтобы приблизиться к обществу? О, многое! Во-первых, у нас есть нравоописатели, которых не пускают и в переднюю они очень любят нападать на высшее общество. У нас есть критики, которые ждут не дождутся чего-нибудь оригинального в литературе, чтоб унизить, уронить произведение, которое не похоже на другие; вообще отличительный характер наших так называемых критиков и сатириков — попадать редко и метить всегда мимо. Наша литература тянется вровень с землею, а они жалуются, что наши авторы заносятся слишком высоко; мы кое-как, с грехом пополам щечимся вокруг словарей — а нам ставят в упрек излишнюю ученость; два, три человека зашептало о шеллинговой, о гегелевой философии; иные проговорили слово об агрономии, — а у нас уже пишут повести, комедии, в которых выводятся на сцену философы, агрономы-нововводители, как будто это было характерною чертою в нашем обществе! Между тем в обществе действительно делается характеристическою чертою совершенное равнодушие к русской поэзии, к русскому театру, к движению русской науки; вместе с произведениями иноземцев вносятся к нам мысли, чуждые нашему духу, и бесчувствие в цветном, красивом наряде, и болтовня народов-стариков, отживших свой век и потерявших всю веру в достоинство человека. Здесь толкуют о пустом фельетоне французского журналиста и не имеют понятия о тех добрых людях, которые стараются у нас подкопать великое честное литературное предприятие; там читают все, от Виктора Гюго до Поль де Кока, и не читали ни Лажечникова, ни Вельтмана; там спорят о танцовщицах и не видали Щепкина, Каратыгина! И вся эта чужеземная смесь тянет книзу и топит эту бесценную проницательность, смышленость и сметливость, которыми провидение свыше одарило русского человека, приготовляя его быть первым человеком в мире науки и искусства… Эти черты остаются для наших сатириков неприкосновенными, а если и попадают в их книги, то в таком превратном и жалком виде, что общество и не знает, о чем идет дело!
Впрочем, виновато ли общество? С некоторого времени некоторые имена, некоторые литературные происшествия — все в каком-то тумане стало доходить до общества. Но чем мы щеголяем пред ним?.. О! ты не поверишь, мой любезный праправнук.
Лучшие из наших литераторов благородно приносили в жертву службе свою литературную жизнь, свою литературную славу, свои минуты вдохновения; словом, все счастие своего бытия. Это благородное самопожертвование отдалило их от той деятельности, которою живет литература народа. Ты знаешь, что у подножия всякой старой литературы есть особый класс промышленников, которые для простолюдинов меняют на мелочь чужие мысли; они пользуются всякими случайностями общественной жизни, пишут книги на случай или сшивают из старых чужих лоскутьев, продают их, — и более своей торговли ни о чем не заботятся; этих промышленников в Европе никто не знает; имена их потеряны в истории литературы, и они не умеют даже произносить своего имени. С нашей же литературой случилось то же, что с домом Крылова: