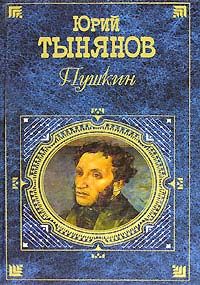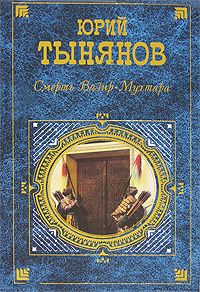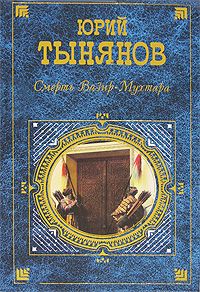Николай Гарин-Михайловский - Том 3. Очерки и рассказы 1888-1895
Без нас Дюк сдох. Говорили, что он опять убегал и нашли уже его где-то во рву. Я узнал потом; просто не кормили, и бедняга сдох от голоду… Жалко было бедную собаку: так пропала… и я часто вспоминал ее… Сыну тогда восьмой год уж пошел и уже принялись за его обученье; но ученье на первых порах не спорилось. Мальчик был очень способный, но небрежно смотрел на дело. Однажды вот в этой самой комнате я решил подтянуть франта. У меня в моей системе воспитания не только наказаний, но и резких слов не было. Все основано было прежде всего на любви, а затем на работе его головы, на рассуждении, на логике, на доводах… Ну вот, как довод, я ему и привел этого самого Дюка, — как доказательство того, что и с задатками можно ни за грош пропасть. Мальчик слушал меня рассеянно, вертел все время мой палец и, когда я кончил, с какой-то своеобразной детской логикой сделал свой вывод:
— Папа!
Это папа он всегда говорил напряженно и звонко,
— Папа! А Ломоносов тоже был из мужиков?
— Отчего ты вспомнил о Ломоносове? — спросил я. Он рассеянно ответил:
— Так…
И опять сосредоточившись на своей мысли, озабоченно, сильнее крутя мой палец, проговорил:
— Папа! Петька говорит, что если бы была школа, он тоже бы учился.
Как это там в его головке скомбинировался Дюк, Ломоносов, его обучение и невежество Петьки, я не знаю, но на меня, человека впечатлительного и нервного, этот вывод его, без преувеличенья скажу вам, произвел потрясающее впечатление. Я часто и раньше думал о школе, может быть, при сыне же и говорил об ней, но неудачи, то, другое — так все и откладывалось. Старая, знакомая мысль, но как-то вдруг осветилась она передо мной так ярко и выпукло… В самом деле: совесть мучит за пса, а за всех этих Ломоносовых, всех этих гениев ума в стомиллионной массе, в каждом поколении имеющихся несомненно и гибнущих или извращающих свои дары — не болит сердце и не думаешь даже.
И точно дело делаешь: ходишь да ворчишь еще — таланты перевелись…
— Скажи своему Петьке, что осенью у нас будет школа.
Мой сын скользнул глазами в окно и снисходительно ответил:
— Ну хорошо, я скажу ему, Но помолчав, он спросил:
— Папа, отчего осенью?
— Так… я давно решил…-
Не говорить же мне было ему, что он, Дюк и Петька были виновниками моего решения.
Он еще подумал и недоверчиво проговорил:
— Папа! ты не забудешь?
— Ну, напоминай мне.
Это понравилось, и он опять милостиво ответил мне:
— Ну хорошо, я напомню.
Этим и кончился мой первый и последний выговор моему сыну: жена там с ним справлялась, тоже, конечно, без всяких мер наказания. Осенью был обычный убыток от хозяйства (я вспоминаю всегда, говоря об убытках, слова моего соседа. Он говорил: «На будущий год будет хуже… Запишите»), но я взял себя в руки и, отделив часть дома, решил ре откладывать дело школы. А чтобы не мучить себя мыслью о лишних расходах, я решил, что я сам себя обложил налогом в пользу образования. И по-моему, каждый получивший это образование, может и должен — и только такой и должен — нести этот налог… Так просто отбирать подписку: хочешь сам образоваться — не грех и возвратить государству затрату, тем более что и живут-то люди с своего образования. И получивши его, надо думать и о тех, кто не получил… в интересах родины. Это самый божеский, самый справедливый налог.
— Я совершенно с вами согласен, — согласился я возбужденно.
— Правда ведь? вот таким налогом и обложил я себя. В первый год и сын до поступления в корпус учился в этой школе.
— И Петька? — спросил я.
— И Петька… Вот они все три основателя, — хозяин показал на небольшую картинку, висевшую с боку камина. Я быстро поднялся и стал рассматривать ее. Были нарисованы мальчик в матроске, деревенский мальчик и между ними лягавая собака с беспечным, нахальным и добродушным в то же время взглядом. Она смотрела, как бы спрашивая: «Ну, ты чего еще здесь?» Так смотрела она, очевидно, в первый период своей жизни.
Мальчик в матроске — сын хозяина, худенький, с маленьким личиком, смотрел своими черными глазками рассеянно, напряженно, как-то поверх всего окружающего и, казалось, думал о чем-то. Крестьянский мальчик, раскинув руки, стоял в типичной позе крестьянского ребенка. Широкое лицо его было спокойно, добродушно, а голубые глаза точно выжидали чего-то равнодушно и терпеливо.
— Вот этот самый Петька и есть… Его и работа эта картинка. Как и все эти картины этой школы, — помолчав, произнес хозяин. — Каждое лето ко мне ездит и рисует.
Я быстро пригнулся к фигуре маленького Петьки. Этот вот… перед картинами которого я стоял, бывало, на выставке и считал бы за счастье когда-нибудь увидеть их автора. Я долго смотрел, и, когда взволнованный сел, хозяин проговорил:
— Есть у меня и поэты.
Он достал с полки книжечку и прочел задушевные стихи.
— Студент еще… Для начала недурно. У меня и ученые, и механики, и изобретатели даже есть. Есть и пахари — у каждого своя доля.
— А ваш сын где? — спросил я.
Я опять дернул грубо за больную струну.
— Бог не дал моему сыну жизни, — ответил хозяин и опустил голову.
Он помолчал и нехотя прибавил:
— Он скоро и умер после открытия школы…
Кровь горячей струей ударила меня по сердцу.
Как! этого худенького, симпатичного, роющегося в своей головке мальчика уже нет на свете?!
Много детей умирает, я хоронил и своих, но, откровенно говорю, такой жгучей боли по умершем, и притом давно умершем, я, кажется, никогда не испытывал.
— Я даже не знаю его могилы… Он утонул… в корпусе, спасая товарища… безрассудно…
Я смотрел на картинку. Так и кажется, что он вот-вот вскрикнет своим звонким голоском: «Папа!»
— Спас? — спросил я, не поворачиваясь.
— Нет: было, я думаю, и ему очевидно, что не спасет он… но бросились другие за ним и спасли того… другого… но его не удалось спасти.
Старик задумался.
— Отчего вы спросили: спас? Разве это меняет значение его поступка?
— Конечно, меняет: мальчик вдвойне герой.
— Да, — вздохнул рассеянно хозяин, — и вот все, что осталось мне от него… он один и был у нас… я вот перенес, а жена не перенесла… я и ей памятника не сделал… их обоих могила для меня здесь, в этой комнате… — в этой школе…
Я молча отошел от картины: какая оригинальная мысль, какая оригинальная могила! Сколько оригинальных, сильных мыслей говорит мне этот старый с разбитой жизнью человек! Могила?! Я их много видел на разных кладбищах и богатых, очень богатых памятников — целые дома, целые города мертвых! И когда ходил около них, мое сердце сжималось холодной тоской смерти, и казалось мне, что эти памятники еще тяжелее давят грудь покойников. Но здесь, в этой комнате могил, ничто не говорило о смерти. Мальчик стоял живой передо мной. Несмотря на серый закат тучами заволоченного осеннего дня, казалось, солнце заливало своим светом эту комнату, и громкий веселый говор в школе собиравшихся на вечерние занятия учеников, как веселое щебетанье птиц, говорил о весне, о счастье и радости жизни.
Чудная могила!
Я смотрел на этого отлетевшего в иную жизнь мальчика и, казалось, слышал оттуда его энергичный, как звон — не похоронный, а радостный, зовущий к жизни призыв:
«Папа! Моя коротенькая жизнь сделает и твою длинную жизнь — прекрасной, полной глубокого смысла для твоего стомиллионного народа».
В усадьбе помещицы Ярыщевой*
Воскресный летний день собирался быть особенно жарким. Солнце как-то сразу показалось на безоблачном небе и скучно, без предрассветной прохлады, уставилось в оголенные берега большой извилистой речки. Там, выше речки, раскинулось большое торговое село, грязное и серое, под цвет остальной округи.
У базарных лавок сидели и стояли толпы жнецов из татар в ожидании найма.
Это был первый базар и первая наемка на жнитво в это лето. Урожай, был хороший, и цены на работы ожидались высокие. На площади показался, приседая и смешно оглядываясь, словно за ним гнались, Кирилл Архипович, приказчик одной маленькой экономии барыни Наталии Ивановны Ярыщевой. Опросил цены на жнитво и, услышав про пятнадцать рублей, убежал без оглядки. Татары жнецы проводили его с базара свистками, улюлюканьем и смехом. Кирилл Архипович, с мягкой курчавой бородой, с громадной лысой головой и мелкими чертами лица, прибежал сам не свой на двор, куда заехал было, и обратился к хозяину, хлопнув руками:
— Беда! Пятнадцать рублей.
Хозяин двора катил в это время бадью по двору и, остановившись, равнодушно ответил:
— Вот как хлещут!
— Чего ж теперь делать? — спросил приказчик.
— И не знаю.
— Ехать надо домой, — вздохнул приказчик. Крестьянин покатил бадью дальше под навес. — Аль раздумали брать?
— Да как брать-то? — Кирилл Архипович почесал затылок. — И не соображусь теперь… Жать двадцать десятин, а всех денег сто двадцать рублей всего-то у нас: половину не сожнешь на эти деньги.