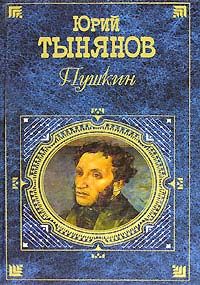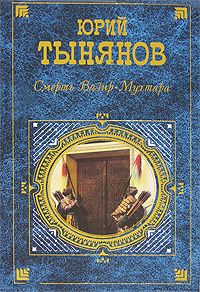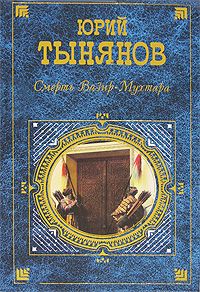Николай Гарин-Михайловский - Том 3. Очерки и рассказы 1888-1895
Он опять замолчал, лицо его приняло характерное отлетевшее выражение, он смотрел в огонь камина и в этих перебегающих струйках точно следил за чем-то, изредка вдруг наклоняя низко голову и подымая брови, словно спрашивал. Я сидел, охваченный обстановкой, и тоже молчал.
— Ну-с, вот вам и школа, — отрываясь от своих мыслей с обычным оттенком неудовольствия, сказал он.
— Да, — вздохнул я, — прекрасная школа… слишком прекрасная, если можно так сказать… Меня особенно поразили эти картины. Они, конечно, великолепны, полны, смысла, но… ведь это должно стоить громадных денег.
Если моего хозяина можно было сравнить с очень чутким капризным инструментом, струны которого вдруг иногда точно просыпались и будили мелодично слух, то я в это мгновение походил на очень плохого артиста, не освоившегося с этим инструментом.
Получился звук резкий и неприятный.
— Нет…
Затем наступило молчание, которое я не решался больше нарушать. Я поздно упрекал себя в этой слабости нашего века все переводить на деньги. Понадобилось, очевидно, известное время, чтобы инструмент опять настроился. И тогда С. заговорил простым задушевным тоном. Если до этого он производил впечатление, может быть немного избалованного обстановкой жизни родовитого дворянина, то теперь это исчезло. Тон был простой, живо хватающий за душу своей грустью и искренностью.
Он начал, и голос его ясно говорил о том, что он подумал перед тем, как начать: рассказывать ли ему мне, или нет?
— Вы могли ко мне и не приехать… Если в такую пору года вы тем не менее не поленились заглянуть к старику, то мой долг, как хозяина, обязывает меня занять вас, как умею. Если хотите, я расскажу вам историю возникновения этой школы, и тогда вам легче будет судить… вот по поводу того, что вы сказали.
Я человек увлекающийся, и в эту минуту, чтобы узнать эту какую-то таинственную историю, готов был не то что слушать двумя ушами, но и многое отдать за это.
Я поспешил, как умел, выразить свою готовность слушать и уставился глазами в хозяина.
Глаза хозяина немного раскрылись, скользнули по мне и с выражением удовлетворения избалованного ребенка он начал… иначе слова не подберу, как-начал жить. Старики любят рассказывать и умеют рассказывать о том, что болит или болело когда-то. Такие пересказы всегда чувствуются и выражаются тем, что слушатель не замечает, как идет время и не отвлекается никакими посторонними мыслями и соображениями.
— Эта школа имеет очень странное начало… по-стариковски, я начну с него… Была у меня собака — Дюк. Я купил ее за щенка из породы французских понтеров. Говорили, что она была действительно породиста, но дело в том, что я моего пса не обучил охоте, потому что сам не охотник, и вырос он у меня болван болваном, Даже его достоинства и те пошли на зло: свою способность искать дичь он проявлял тем, что душил домашнюю птицу; свою любовь к охоте выражал тем, что, куда бы я ни ехал, он обязательно сопровождал экипаж. Набаловал и остальных собак. Штук двадцать несется, бывало, их за экипажем. При этом радость свою выражают и он и остальные лаем и не то, чтобы вначале, а так-таки всю дорогу. Остановишься, чтобы прогнать, отбежат и смотрят, и во главе все тот же Дюк, Доведет до полного исступления… Было бы ружье, так и пустил бы в него заряд. И при этом страсть прыгать лошадям к морде. Раз так хватил за ноздрю коренника, что лошади чуть не разнесли экипажа. Набалован был ужасно. И шло все это crescendo. Щенком привык валяться по диванам: с грязными лапами и после прямо на диван. С блюд стал, наконец, таскать: прямо подскочит и схватит. И умный при этом — набедокурит и скроется, — выждет время, когда гнев пройдет, опять покажется. Несколько раз я уже серьезно задумывался над тем, не прикончить ли его? да все жаль как-то, да и упрек к тому же, что в сущности я сам и виноват в том, что из него вышел негодяй. В других руках, может быть, получилась бы знаменитость в своем роде, а у меня дрянью вышел. Как-то раз одно к одному все подошло. На самую пасху вместе с гостями ворвался в столовую, лапы на стол и хвать самую лучшую колбасу. Мало этого: в тот же день сына укусил. Ну, тут уж так меня атаковал, что я сдался и приказал его пристрелить. Повар, как наиболее страдавший от его нахальства, и взялся с удовольствием за исполнение приговора. Так нет же, понял, как человек, и сбежал. Пропадал до глубокой осени. Наконец, возвратился… но в ужасном виде. Прежде это был белый с пятнами, лоснящийся, задорно-уверенный пес, глава всей дворовой псарни. Теперь это была самая паршивая грязная собака. Он, очевидно, понимал, какая метаморфоза произошла с ним. Он уже не лез в комнаты, отказался от всякого главенства над остальными псами, и те грызли его теперь беспощадно. Ко всему он еще чихал и кашлял, и из ноздрей его сочилась какая-то дрянь. Одним словом, пропал пес: угрюмый, с поджатым хвостом свернувшись где-нибудь у забора, он все дни лежал до тех пор, пока место его не приходилось по вкусу какому-нибудь другому псу. Тогда Дюк покорно подымался и, выгибая кольцом вверх свою острую спину, тоскливо брел куда-нибудь дальше. Прежде, бывало, при моем появлении он всегда развязно бросался ко мне на грудь, но теперь разве издали вильнет хвостом и взвизгнет. Все свои нахальные повадки он бросил, и даже повар, непримиримый враг его, оставил мысль о том, чтобы пристрелить его. Как-то зимой, в декабре, я в маленьких санках, по обыкновению объездив хутора, заглянув на мельницу, возвращался домой. Были уже сумерки. Я подъехал к подъезду и в ожидании, пока кто-нибудь возьмет лошадь, смотрел в окно столовой, где горела уже лампа, как приготовляли чай, как жена сидела у стола и что-то читала. Во дворе как раз никого не было и я, оглядываясь, кому передать бы лошадь, вдруг вспомнил, что не побывал сегодня в лесу, где шла у меня в то время расчистка родников. Я всегда ко всему горячо относился и тогда это был разгар моих сельскохозяйственных затей… Из этого всего, впрочем, ничего не вышло, и все мои затеи дали один большой убыток… потому что я, да и многие из нас, хозяев, в сущности тоже Дюки в нашем деле… Нет знанья, нет порядков, а без этого у такой капризной барышни, как природа, ничего не получишь. Да, да, мы сами себя наказываем: в сравнении с тем, что у меня было, — теперь осталась капля… Ну так вот, я и решил тогда, пока что съездить в лес, благо близко было, — ну версты полторы-две. У ворот при выезде молькнула какая-то тень, и я, узнав Дюка, вдруг окликнул его. Он уже давно оставил повадку бегать за мной, но одного оклика было довольно, чтобы Дюк, как и прежде, бывало, побежал за мной. Он попробовал даже было забежать вперед и, как прежде, грациозно подпрыгнуть перед мордой лошади, но прыжок вышел неудачный, тяжелый, он попал под копыто, затискался в снег и, визжа, уже сзади поплелся за санями. Я, впрочем, забыл о нем: и без него было хорошо. Мороз был градусов тридцать и охватывал, как освежающая ванна. В воздухе не шелохнулось, Небо вызвездилось, и морозные яркие звезды точно замерли и тонули там, в бархатной прозрачной синеве неба. Лошадь отчетливо быстро бежала, и под визг полозьев я задумался и замечтался… вероятно, сколько я вспоминаю, о разных барышах с своего хозяйства… Удивительная это способность нашего брата мечтать об этих барышах: по целым дням и зиму и лето ходишь и считаешь — на счетах, на бумажке, — ошалеешь совсем, точно дурману объешься… а какая-нибудь полезная умная книга так и пролежит всю зиму нетронутая… И не видишь, куда время идет… Газет не читаешь! Жена разве выручит и как-нибудь утром в кровати или за обедом урывком расскажет, что делается на свете. Убыток явный уж в виду: нет, еще тешишь себя. Собрал хлеб, наконец, обманываться нельзя больше. Тогда прыжок, и все надежды уже там, в будущем году — озимь, пашня под яровое, семена, как бы побольше посеять, да как бы год хороший. Вот на это и тратит часто свое время наш брат.
Ну, опять увлекся… приехал я в лес, бросил вожжи, лошадь смирная, и пошел к родникам. Чистка родников заключалась в том, что рылись ямы аршина в два с половиной и запускался в них сруб. Около одной из таких ям без сруба я, рассматривая, слишком близко подошел к краю и по свежей грязи не удержался и съехал в яму, Ну, съехал, что за беда: не колодезь — голова уровень с краями. Это было первое ощущение. Но когда я принялся выкарабкиваться, оказалось, что беда и большая беда: не могу выбраться. Смешно, вижу глазами землю, лес, протянуть руку только, чтобы ухватиться… Но ухватиться-то и не за что: кругом скользкая грязь, и лезет она вместе с рукою назад. Одного усилия руками и ногой достаточно бы, но рука и нога скользят. Какое бы нибудь дерево поближе: дразнят там, а здесь ни одного, В шубе — устал. Побился, побился, остановился и думаю: что же мне делать теперь?
Тишина мертвая в лесу, только ветки где-то трещат от мороза. Крикнуть? Кто услышит? Хоть бы лошадь ушла домой, но и лошадь такая, что хоть до утра будет ждать. Если и дома хватятся: где искать? Проехал так, что никто и не видал. А внизу вода. Чувствую, что она начинает просачиваться сквозь валенки… Плохо. Думаю: ведь это смерть подходит. Шутка сказать! А до утра никто не заглянет. Кажется мне, что я уже зябну, и чувствую, что нервная дрожь добирается и до зубов, Хоть бы воришка какой-нибудь в лес заглянул: озолотил бы. Страшно, как подумаю, что смерть подходит, так все и забьется во мне, и готов и выть, и метаться, и опять сознание своего бессилия как ледяной водой окатит… вспотел весь… вспотел и стыну. Серьезно говорю, что никогда в жизни и притом в такой комичной обстановке я не был так близок от смерти. И если бы не Дюк — я замерз бы. Сперва я на него и внимания не обращал, но вдруг привлек меня его громадный ошейник, прежний ошейник, который теперь болтался на худой шее и резал глаза контрастом. С помощью этого ошейника я и решился спастись. Новая беда: зову я Дюка, а он не идет. Бегает, визжит, хвостом машет, а не идет: не верит мне — отвык. Каких-каких самых нежных названий я не надавал ему. Как мягко ласково уговаривал. Да, пришлось-таки повозиться, пока опять восстановились наши прежние отношения, и он, наконец, подошел настолько близко, что я мог хватить его за ошейник. Он поздно было рванулся, но это мне и надо было: держась двумя руками за ошейник, опираясь ногой в стену ямы, я начал выбираться. И по мере того как я выбирался, Дюк, пятясь от меня, тем самым тащил… тащил жалкий, худой, — меня — громадную тушу, особенно в шубе. Я вылез, и можете себе представить, он понял свою услугу. Надо было его видеть. Его восторг не имел границ. Он бросался мне на грудь, лаял и визжал, и опять бросался, и лизнул-таки своей грязной мордой прямо в губы меня… Через десять минут я уже опять был у окна своей освещенной столовой. Когда я сидел там в яме, мне все представлялась эта мирная картина ожидания меня: долго пришлось бы ждать. Тревога уже поднялась: дворня была на ногах, ведь было семь часов, я два часа пробыл в лесу. Дюк, как только отворилась дверь, первый влетел в комнату, вихрем пронесся в кабинет прямо на кушетку. Пока я, щелкая зубами, рассказывал жене о том, что случилось со мной, он лежал на кушетке, высоко подняв голову, и отбивал своим хвостом такт: очевидно, он вторично переживал удовольствие и сознание, что теперь его не прогонят с кушетки. Этот вечер он там и провел, я кормил его отборными кусками… Скоро пришлось мне со всей семьей уехать из деревни, и возвратились мы только весной.