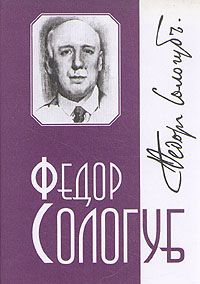Федор Сологуб - Том 3. Слаще яда
Женя поморщился. «Этакая пошлость!» – подумал он.
Шаня увидела его и покраснела: ей стало стыдно, что он слышал ее пение. Но она не любила быть долго сконфуженною, весело засмеялась и спросила Женю:
– Ну что, хорошо я пою?
– Поешь-то ты хорошо…
– Да где-то сядешь? – докончила Шаня. – Ну хорошо, хочешь, я тебе спою?
– Спой, только, пожалуйста, не эту пошлость, что я слышал. Шаня сорвала ветку рябины и молча стала ее ощипывать.
– Что ж ты не поешь? – спросил Женя. – Или ты обиделась?
– Ничуть не обиделась, а не хочу.
– Сейчас же хотела!
– А сейчас и отхотела. У меня это скоро. Пойдем-ка лучше на качели.
– Пойдем. Только ты, может быть, обиделась?
– Ну да, вот еще.
Шаня и Женя забрались на качели. Тяжелая доска, подвешенная на четырех толстых брусьях, раскачивается с легким скрипом все выше и выше. Шаня сильно работает руками и ногами: ей нравится подбрасывать доску высоко-высоко, – и она радостно, звонко смеется. Доска взлетает выше и выше. Сначала Женя старается не отставать от девочки и, в отместку ей, подкидывает ее конец с каждым разом все выше. Потом ему приходится только держаться. Он начинает бояться и бледнеет. Он держится руками, упирается из всех сил ногами в доску, – ноги его как-то странно и страшно начинают отставать от доски при каждом взлете, и ему каждый раз кажется, что вот-вот он сорвется. А Шанька все поддает доску, поддает без конца.
– Довольно, – говорит он наконец глухим от волнения голосом. Шанька не унимается: она работает так, что пот струится по ее лицу, – ей хочется сделать, чтобы доска стала вертикально.
– Довольно, Шанька, упадешь, – говорит Женя, задыхаясь.
Шанька отчаянно стиснула зубы. Еще один неистовый взмах, – и доска стала вертикально. На одно мгновение Женя видит прямо под собою напряженно-вытянутую фигуру девочки. Женя замирает от ужаса и беспомощно корчится, – и стремится за доскою вниз, безнадежно уцепившись оцепенелыми руками за брусья, – и вот Шанька уже опять над ним и упруго приседает, чтобы повторить ужасный взмах качелей.
– Перестань, Шанька, говорят тебе! – кричит Женя бешеным голосом.
Качели взлетают по-прежнему высоко, но Шаня видит, что Женя побледнел, и перестает поддавать. Раскачавшиеся качели тяжко колышутся, Шанька тяжело дышит, черные глаза ее мерцают торжеством победы.
Не дожидаясь, когда качели остановятся, улучив благоприятный момент, Женя соскочил с доски и быстро отошел в сторону, подальше от качелей. Ему не хочется и смотреть на них: у него кружится голова.
– Ну, чего ты боишься? – спросила Шаня, спрыгнула с качелей и побежала за ним.
– Я за тебя боюсь, ты могла ушибиться.
– Привыкла! – беспечно ответила Шаня.
– Ты могла бы до смерти убиться, пойми, пожалуйста.
– До смерти! Большая беда. Раз умирать надо, а все трусить, так и жить не стоит, – скучно очень.
– А обо мне ты не думаешь? – убеждал Женя, досадливо краснея. – Что бы со мною было, если бы ты умерла?
Шаня звонко засмеялась и повернула Женю за плечи кругом.
– Ах ты, философ! – крикнула она. – Уж очень ты цирлих-манирлих, как я погляжу, – уж я даже и не понимаю.
После праздничной обедни народ толпами выходил из собора. Варвара Кирилловна остановилась на паперти.
– Охота связываться! – недовольным тоном сказал Модест Григорьевич.
– Иди, пожалуйста, домой! – с раздражением ответила Варвара Кирилловна, – и не беспокойся, я все самым приличным образом улажу.
– Как знаешь, только я тебя предупреждал. – Хорошо, хорошо, знаю.
Модест Григорьевич пожал плечами и отправился домой. В это время из церкви показалась Марья Николаевна с Шанею. Варвара Кирилловна подошла к ним.
– Я, моя милая, хочу сказать вам кое-что, – величественно обратилась она к Марье Николаевне.
– Сделайте ваше одолжение, послушаю, – отвечала Марья Николаевна спокойно. – Беги, Шанька, домой, нечего тебе тут.
Шаня весело побежала вперед. Варвара Кирилловна и Марья Николаевна сошли с паперти и медленно двигались в толпе горожан. Варвара Кирилловна немного помолчала, потом начала:
– Я хочу вас просить, чтобы вы запретили вашей дочери вести знакомство с моим сыном.
– А вы бы, сударыня, лучше вашему сыну запретили: я и так свою Шаньку в ваш сад не пускаю, а ваш-то сынок частенько около наших яблонь околачивается.
– Дело не в яблонях, моя милая, – вы должны понимать, что ваша дочь моему сыну не пара.
– Отлично понимаем, сударыня, – мы вашего сына в свой дом и не пустим, а только чего ж он к Шаньке вяжется?
– Уж я не знаю, моя милая, кто к кому вяжется, как вы выражаетесь.
– Да что, сударыня, я вам такая милая сделалась? Будто бы и не было моего желания так уж вам угодить.
– Послушайте, – сказала Варвара Кирилловна, краснея от негодования, – я, наконец, решительно требую, чтоб это безобразие было прекращено.
– Не знаю, про какое такое безобразие изволите говорить, а только что уж очень много у вас форсу, сударыня.
– Как ты смеешь со мной так разговаривать, дерзкая баба! – внезапно вспылила Хмарова. – Да знаешь ли ты…
– Да ты-то что ершишься! – закричала Марья Николаевна, так же внезапно выходя из себя. – Что муж-то твой генералом будет! Так еще пока будет, да и то он, а не ты. А у нас, у баб, звезды-то у всех одинаковы.
Марья Николаевна все более и более повышала голос. В толпе стали прислушиваться и оглядываться. Варвара Кирилловна поторопилась отойти подальше.
– Нахальная баба! – проворчала она, больше для своего удовольствия.
– Что, – кричала вслед ей Самсонова, – не нравится небось? Дома Шаньке досталось от матери, зачем она водится с Хмаровым: Марья Николаевна сорвала остаток злобы на Шаньке и больно высекла ее. Шаня поплакала и принялась вышивать в подарок Жене кошелек: была бы ему память, если б не дали повидаться.
Однако встречи повторялись. Евгения тянуло к Шане. Его родители были очень озабочены своими делами, – им было не до Жени: Модест Григорьевич хлопотал о переводе в Крутогорск на более видную должность. Место, которого желал он, было еще занято, на него было много других кандидатов, и Хмаровы сильно волновались.
Осенний ясный день. Холодноватый ветерок. Невысокое солнце лихорадочно жарко. Листва ярка и разноцветна. Дорожки старого парка журчат опавшими листьями; опавшие, блеклые листья заволакивают у берегов воду в пруде, рябят поверхность узких протоков. Женя и Шаня сидят в беседке в конце парка у низкой изгороди и смотрят на унылое поле, на мелкую речку.
– А помнишь, – спросила Шаня, – как мы с тобой летом в этой речке ловили раков руками?
Женя краснеет. Как подумаешь, каких глупостей ни наделаешь, если влюблен!
Шаня приготовила Жене подарочек, – шитый бисером и шелками кошелек, – и держит его в кармане. Она мечтает, как он будет рад подарочку, – ей приятно мечтать об этом, и она оттягивает ту минуту, когда отдаст ему кошелек. Она знает, что он и кошелек должен будет спрятать, как ее портрет, но пусть! пусть! зато он сам порадуется. Наконец она опускает руку в карман, нащупывает там кошелек и веселыми глазами, посмеиваясь, посматривает на Женю.
– Ну, в чем дело? – спрашивает Женя и улыбается.
– Женечка, – внезапно смущаясь, говорит Шаня, – вот я тебе подарочек приготовила на память. Сама вышивала.
Она достала кошелек и подала его Жене. Женя покраснел и смешался: он вспомнил вдруг, как он покупал подарок Шане и не купил, – и ему стало стыдно и досадно.
– Спасибо, – пробормотал он, неловко поворачивая кошелек в пальцах, – очень мило. Но зачем ты это? Ах, Шаня, это неудобно.
– Неудобно? – спросила Шаня, и на лице ее отразилось недоумение и обида.
– Ну да, конечно, как ты не понимаешь!
– Где ж мне понимать! Я думала, тебе приятно.
– Вот ты мне даришь, точно намекаешь, чтоб и я тебе дарил, – недовольным, обиженным тоном объяснял Женя.
– Ничего я не намекаю, – сердито сказала Шаня, постукивая носком башмака по песку дорожки.
Женя не обратил внимания на перерыв: он слишком занят был своим негодованием.
– А почему я тебе не дарю? Ну, положим, я подарю…
– Ничего мне от тебя не надо.
– А твой отец увидит, тебе же достанется. Я не хочу подводить тебя под неприятности. А не могу же я принимать от тебя подарки, если сам ничего тебе не буду дарить.
– Ничего мне не надо, – шепнула Шаня и заплакала. – Разве я для подарков? – крикнула она стесненным от слез голосом, всхлипывая.
– С тобой совсем нельзя говорить, Шаня, ты нисколько не жалеешь моих нервов, – говорил Женя дрожащими от ярости губами. – Ты просто психопатка какая-то.
Он побледнел и вздрагивал от злости.
– Психопатка! – повторила Шаня, плача. – Ишь ты, такое слово выдумал, – психопатка! Поди ж ты как! А ты – куропатка! Противный, – тебе же хотела угодить, а ты ругаешься.