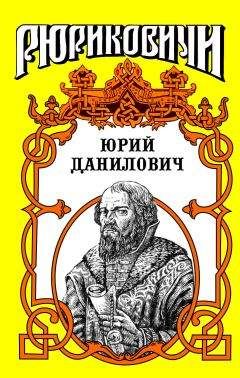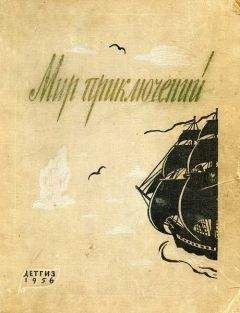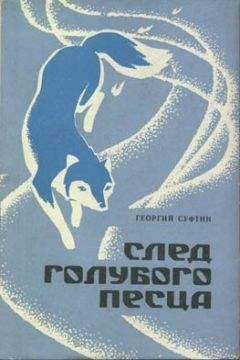Николай Крыщук - Расписание
Впрочем, идеалы и принципы должны быть обязательно громкими и хорошо вооруженными, иначе не интересно. Люди безвременья вообще охочи до скандалов и сенсаций, они рабы эффектов, без которых жизнь теряет смысл.
Фильм "Последнее искушение Христа". Сколько-то там Оскаров, сумасшедшая реклама, компетентное негодование церковников, возмущение неосведомленных еще "патриотов" и прихожан всего мира, вдохновенное приветствие либералов. Организовано хорошо. Настолько хорошо, что многие и многие отказались от регулярного сна, чтобы увидеть фильм собственными глазами.
Что же фильм?
Снято красиво. Видно, что авторы подолгу рассматривали иконную живопись, фрески. Все эти ритмичные наклоны голов, закаменевшие складки одежды, глаза и скорбные, и лукавые, и страдающие. Вот только Христос с самого начала не ведает о своем призвании, считает себя человеком дурным и грешным, испытывает страх перед мессианским предназначением, которое ему с помощью подсказок свыше навязывают. Я, мол, не знаю, что сказать людям, но Бог вкладывает в мои уста слово "любовь", и я говорю: "Любовь". Получается скорее пресс-секретарь президента, чем мессия. В лучшем случае, психологическая драма рефлексирующего интеллигента. Чехов, может быть. Нет, скорее Леонид Андреев.
Однако если интеллигент, то не надо с самодовольной улыбкой предлагать Иуде заглянуть в кувшины и самому убедиться, что вода превращена в вино. Это некрасиво. Если все же чудо, то при чем здесь интеллигент, которому чудо претит? И сердце вынимать из атлетической груди не надо. У Данко оно хотя бы горело.
Если человек, то поступает дурно, подговаривая Иуду предать его, чтобы исполнить положенную ему жертву. Ведь это просто провокаторство революционера, тем более тут же признается Иуде, что воскреснет и будет править живыми и мертвыми. Если Бог, то глуповато устраивать провокацию, будто не знает, что в человечестве достаточно тупости и подлости, чтобы все и так совершилось своим путем.
Так о чем же страсти как горячих приверженцев, так и ярых противников? Просто пляски и хороводы вокруг картонного идола. Жить нечем, а желание быть причастным высокому сильнее голода. Когда и кто назначил высокое быть высоким и что сие значит - не суть важно. Все давно перепуталось и забылось. А так под лозунгом "Руки прочь от Христа!" можно и с красным флагом выйти.
* * *
Столько подпольных людей развелось, что впору создавать партизанские отряды. Только эти самые подпольные люди в партизанские отряды, по счастью, не собираются. Они, напротив, все по своим конуркам сидят и безмолвствуют. Потому что (прав Федор Михайлович) "если, например, взять этого антинормального человека, то есть человека усиленно сознающего, вышедшего, конечно, не из лона природы, а из реторты (это уже почти мистицизм, господа, но я подозреваю и это), то этот ретортный человек до того иногда пасует перед своим антитезом, что сам себя, со всем усиленным сознанием, добросовестно считает за мышь, а не за человека".
Одновременно ретортный этот человек считает себя несомненно умнее других. Правда, иногда и этого тоже совестится.
Всю жизнь почему-то приходилось ему смотреть в сторону от лица, и никогда не мог посмотреть он человеку в глаза. Не из-за нечистой совести, как простодушно решат некоторые, а из неизбежности выдать при встрече взглядов живущее в нем презрение. Потому что если б и было в нем великодушие, то добавило бы оно только муки - от сознания его бесполезности.
Не буду утверждать, что тип этот так уж часто встречается. Но одного из таких "подпольщиков" я имел случай наблюдать в чистейшем его проявлении.
Было ему лет сорок. Лысоват. С очень хорошей реакцией, он умел иногда предупреждать нервической усмешкой еще не законченную фразу. Женщинам он вряд ли нравился, потому что с насмешкой относился ко всякому ухаживанию и любил разоблачать кокетство, будто имел дело не с женщиной, а с партнером по партии. При всем уме, согласитесь, эта черта свидетельствовала об определенного рода недалекости, которая обычно отговаривается принципами. По службе он, кажется, не слишком продвинулся в силу все той же, скорее всего, принципиальности. Пустого разговора не выносил.
Однако вот что интересно. Тот же самый человек любил иногда рассказывать о себе истории, в которых выглядел то ли смешно, то ли просто не замечательно. В этом был определенно умысел, только я долго не мог его разгадать. А и то, что я пытался разгадать, ставит меня на одну доску с ним. Это я понимаю.
В какой-то момент мне его умысел стал понятен.
Во-первых, если он сам расскажет про себя историю, в которой выглядел не превосходно, то это все же лучше, чем если бы это сделал кто-нибудь другой. А то, не дай Бог, будут про него ту же историю передавать друг другу тайно от него, расцвечивая ее домыслами. Он же будет поневоле ходить в дураках, гадая: знают они или не знают, и что именно, и в каком освещении, и что по дороге приврали, да так, что уже и сами поверили?
Если же сам про себя сказал какую-нибудь неприятную правду, то это может и уважение вызвать. Не каждый на это способен все-таки.
Он же при этом может и не всю правду рассказать или приукрасить ее каким-нибудь ему одному известным мотивом: пусть даже не очень благородным, даже постыдным, но сам ведь себя первым осудил или же посмеялся над собой. Тут уж другим врать про дальнейшее станет не очень интересно. А у желающих строго осудить и вообще камень из-под ног: что же осуждать человека, который сам себя только что прилюдно осудил, что же смеяться над ним, если он сам над собой первым посмеялся?
Только в правде, даже и неполной, непременно должна быть некая ядовитость, что-то действительно и серьезно уязвляющее, иначе непременно разоблачат, и все пойдет насмарку. В тонкостях же изменения картины любопытных разбираться не слишком много. И все же соврать надо только чуть-чуть и лишь про то, чему никто не может быть свидетелем. С фактической стороны правда должна быть безукоризненной и неприглядной.
Еще: можно рассказать ведь и не самую постыдную историю. Тогда, если кто-то откопает еще постыднее, ее можно смело отрицать. Большинство непременно поверит, и даже при твердой настойчивости обличителя образуется все же некоторая неопределенность. При удачном стечении обстоятельств обличителя можно выставить даже как злопыхателя и клеветника.
В перспективе существует и еще одна выгода: при случае можно скромно рассказать про себя (скромно, разумеется, и к случаю) нечто почти героическое или, во всяком случае, романтическое. Поверят, потому что правдив. Был же этот случай в действительности или нет - не важно. Главное: следы заметены, пыль пущена, образ мерцает, можно жить дальше, наслаждаясь своим полным презрением к сотоварищам, равнодушием и невидимостью.
Прогресс есть все же. Появились анекдоты для публики читающей.
Бежит по крыше дворник с лопатой за мальчишкой. Мальчишка думает: "И зачем я полез на крышу? Поехал бы лучше на сафари с хорошим писателем Хемингуэем. Охотились бы с ним на тигров, пили сухое вино".
А в это время Хемингуэй отбивается от москитов и думает: "Что я здесь делаю? Жара невыносимая, тигры вокруг. Сидел бы сейчас лучше в Париже с моим другом Генри Миллером, пили бы с ним вино, говорили о женщинах и о литературе".
Генри Миллер в это же время тоскует в парижском кафе: "Как все это надоело - пьянство, обжорство, проститутки. Поехать бы лучше в Россию к замечательному писателю Андрею Платонову. Засиживались бы с ним до рассвета, говорили о душе".
В это время Андрей Платонов бежит с лопатой за мальчишкой и думает: "Догоню - убью!"
Иногда беру в руки любимую книжечку - Ханса Шерфинга, "Пруд" - и завидую бесконечной жизни ее автора. Мне кажется, что я должен был бы прожить такую же жизнь, проведенную в наблюдении за молчаливой драмой пруда. И была бы эта жизнь счастливой и исполненной смысла.
Люди, проведшие лучшие годы своей жизни в библиотеке, взросшие на асфальте под надрывающий душу рев не зверей - машин, заглядывающие в телевизор, как в окно, чтобы узнать погоду, те, кто водил пальцем по мокрому стеклу, пытаясь вызвать крики птиц, люди, свыкшиеся с иронией кавычек в разговоре, - они поймут, о чем речь.
Существует любопытная теория, по которой люди произошли от деградирующего вида обезьян. Обезьяны, потерявшие инстинктивную связь с природой, в девяноста девяти случаях из ста, конечно, погибали. Был только один, почти невероятный шанс, и наши предки его использовали. Они стали наблюдать жизнь тех обезьян, которые свою связь с природой не потеряли. Наблюдать и подражать. То есть производить те же самые действия, но уже не инстинктивно, а осознанно. Так появились первые зачатки интеллекта и воображения. Деградировавшие обезьяны стали строить свою цивилизацию и все дальше и дальше уходить от природы.
Не потому ли первобытное единение с природой, мало похожее на идиллию, предстает в нашем сознании как идиллия и выступает в форме ложного воспоминания?