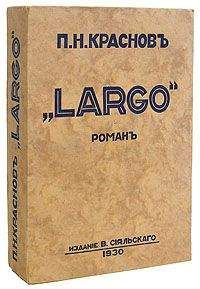Петр Краснов - Ненависть
— Мы шли мимо Владимирской церкви. Съ голыхъ вѣтвей окружающаго ее сада падали тяжелыя ледяныя капли. Оттепель продолжалась. Огни уличныхъ фонарей тускло отражались въ золотыхъ куполахъ маленькихъ часовенъ. Стройны и воздушны были линіи собора и высокой колокольни, ушедшихъ отъ улицы вглубь сада. Молча прошли мы мимо собора. Я перекрестилась. Володя равнодушно отвернулся. Я опять прошла мимо остановки трамвая. — «Ты опоздаешь на поѣздъ», — сказалъ мнѣ Володя. — «Володя», — сказала я, — «оставь меня одну, Дай перегорѣть во мнѣ всему тому, что я узнала сегодня». Онъ фыркнулъ и остановился закуривать папиросу. Я невольно стала подлѣ него.
— «И ты» — сказалъ онъ, — «какъ дядюшка казацкій есаулъ — вотъ еще мракобѣсъ! — прогоняешь меня. Такъ попомни. Первые христіане тоже всѣми были гонимы. И правительствомъ и близкими». — Я собрала всѣ свои силы и какъ только могла спокойно сказала: — «это не то. Тамъ была религія любви»… Володя приподнялъ надъ головою фуражку и со страшною силою сказалъ: — «здѣсь ненависти!.. Ты меня поняла!.. И отлично это будетъ. Ихъ надо ненавидѣть!.. Ихъ топтать надо!.. гнать!.. истреблять!.. Ненависть!.. Ты узнаешь когда нибудь, какъ можетъ быть сильна ненависть. Она сильнѣе любви». — «Но любовь побѣдитъ», — сказала я и круто повернула назадъ къ трамваю. Онъ не пошелъ за мною, и мы разстались, не сказавъ слова прощанія, не пожавъ другъ другу руки. Я будто видѣла, какъ онъ шелъ, хмурый и злой, съ опущенной головой по темной Большой Московской. Я сѣла въ трамвай. Мнѣ было безотчетно жаль Володю».
IX
Въ сочельникъ съ утра обѣ семьи въ полномъ составѣ, кромѣ Володи, убирали елку. Впрочемъ «мужчины» Борисъ Николаевичъ Антонскій и Матвѣй Трофимовичъ оказались очень скоро не у дѣлъ. Они попробовали — было — помогать, но на нихъ закричало несколько голосовъ:
— Папа, не подходи! Ты уронишь елку.
— Дядя Боря, смотри, зацѣпилъ рукавомъ подсвѣчникъ. Нельзя такъ неаккуратно.
— Да я хотѣлъ только помочь, — оправдывался Антонскій. — Вамъ не достать, а я ишь ты какой высокій.
— Папа, тебѣ вредно руки поднимать и на ципочки становиться. Это все сдѣлаетъ Гурочка.
— Ну, какъ хотите. Пойдемъ, Матвѣй Трофимовичъ. Они отошли въ уголъ зала и сѣли въ кресла и только Матвѣй Трофимовичъ, доставъ портсигаръ, приготовился закурить, какъ Женя набросилась на него:
— Папочка, гдѣ елка тамъ нельзя курить. Ты намъ своими папиросами весь Рождественскій ароматъ убьешь.
— Дядечька, не курите, пожалуйста, — закричали Мура и Нина.
— А да ну васъ, — отмахнулся отъ нихъ Матвѣй Трофимовичъ. — Пойдемъ, Борисъ Николаевичъ, ко мнѣ въ кабинетъ.
— Такъ и лучше, — солидно сказала десятилѣтняя Нина, — а то эти мужчины всегда только мешаютъ.
Гурочка, взобравшись на стулъ, поддерживаемый Женей весь перегнулся въ верхушке елки и проволокой крѣпилъ тамъ замѣчательную свою звѣзду. Шура подавала ему свѣчи.
— Поставь сюда… И здѣсь… Надо чтобы отсвѣть падалъ отъ звѣзды. Теперь пропусти этотъ серебряный иней. Меньше… меньше клади. Наверху всегда немного.
Ольга Петровна съ Марьей Петровной, сидя на диванѣ передъ круглымъ столомъ, розовыми ленточками перевязывали яблоки и мандарины. Ваня вставлялъ свѣчи въ маленькiе подсвѣчники, Мура и Нина наполняли бонбоньерки мелкимъ, разноцвѣтнымъ блестящимъ «драже».
— Нѣтъ, въ наше время, — вздыхая, сказала Ольга Петровна, — елку совсѣмъ не такъ убирали. Елка была тайна для дѣтей. Ты помнишь, Машенька?
— Ну, какъ-же, отозвалась Марья Петровна. — Батюшка съ матушкой такъ елку привезутъ, что мы, дѣти, и не узнаемъ того. Только по запаху, да по тому, что дверцы въ зальце на ключъ заперты догадаемся — значить, елка уже въ домѣ. И вотъ станетъ тогда во всемъ домѣ какъ то таинственно, точно кто-то живой появился въ домѣ. И этотъ живой — елка.
— А въ сочельникъ, — оживляясь, продолжала Ольга Петровна, — батюшка съ матушкой запрутся въ зальце, а насъ еще и ушлютъ куда нибудь и взаперти безъ насъ и уберутъ всю елку и подарки всѣмъ разложатъ.
— Я какъ сейчасъ помню ключъ отъ гостиной. Большой такой, тяжелый.
— Такъ роскошно тогда не убирали елокъ. Снѣгъ этотъ изъ ваты, серебряный иней только только тогда появлялись. У насъ ихъ не употребляли совсѣмъ.
— Больше, помнится, Леля, яблоки вѣшали и мандарины. Яблочки маленькіе Крымскіе. Они такъ и назывались елочные.
— Съ тѣхъ поръ, какъ услышу гдѣ пахнетъ мандаринами — все елка мнѣ представляется.
— Мы ихъ тогда такъ, какъ теперь среди года то и не ѣли никогда, только на елкѣ.
— Тетя, — сказала Женя, — ваше дѣтство было полно тайны. Что-же лучше это было?..
— Лучше?.. Хуже?.. Кто это скажетъ?.. Папа нашъ, сама знаешь — былъ священникъ, отъ этого въ домѣ было много того, что вы теперь называете мистикой. Елка намъ, дѣтямъ, и точно казалась живою, одушевленною. Когда въ первый день Рождества я одна утромъ проходила черезъ зальце, гдѣ въ углу стояла разубранная елка, мнѣ казалось, что она слѣдитъ за мною, мнѣ казалось, что она что то думаетъ и что то знаетъ такое, чего я не знаю…
— Елка думаетъ… Вотъ такъ-такъ… — воскликнула Мура. — Мама, да ты это серьезно?
— Совершенно серьезно. Конечно, это сказки на насъ такъ дѣйствовали. Мы Андерсеномъ тогда увлекались, «Котомъ Мурлыкой» зачитывались, многое неодушевленное одушевляли. Выбросятъ елку послѣ праздниковъ на помойную яму, на дворъ, лежитъ она тамъ на грязномъ снѣгу, куры, воробьи по ней ходятъ, прыгаютъ, а у насъ съ Машенькой слезы на глазахъ: — какъ елку жаль!.. Какъ за людей стыдно! Обидѣли елку… Это въ насъ совершенствовало душу, оттачивало ее. И какъ теперь безъ этого? Пожалуй, что и хуже.
— Мамуля, да тебе сколько лѣтъ тогда было? — спросила Мура.
— Ну, сколько?.. Немного, конечно, а все — лѣтъ восемь, десять было. Да и потомъ… И даже сейчасъ — это чувство жалости къ брошенной елкѣ осталось. Осталось и чувство обиды за человѣческую жестокость и несправедливость.
— Мы, Мура, — сказала Ольга Петровна, — тогда совершенно искренно вѣрили въ мальчиковъ, замерзающихъ у окна съ зажженной елкой, въ привидѣнія и въ чертей.
— Въ чертей! — воскликнулъ Гурочка. — Вотъ это, мама, ты здорово запустила! Это я понимаю! Хотѣлъ-бы я посмотреть, хотя разъ, какіе такіе черти на свѣтѣ бываютъ?
— Благодари Бога, что никогда ихъ не видалъ, — тихо и серьезно сказала Ольга Петровна. — Не дай Богъ дожить до такого времени, когда они себя въ міру проявятъ. Вотъ Женя спросила, лучше-ли было въ наше время? Лучше не скажу… Но, пожалуй, добрѣе… Тогда мы не могли такъ жестоко поступать, какъ… какъ Володя…
Въ ея голосѣ послышались слезы. Марья Петровна обняла сестру за плечи и сказала:
— Мы всѣ всегда были вмѣстѣ. Три сестры и братъ Дима на праздники приходилъ къ намъ изъ корпуса, или изъ училища. Это потомъ уже разбросала насъ судьба по бѣлу свѣту. Да и разбросанные мы никогда одинъ другого не забываемъ.
Нѣсколько минутъ въ гостиной стояла напряженная тишина. Наконецъ, тихо сказала Ольга Петровна.
— Вотъ и сейчасъ неспокойно у меня на душѣ отъ того, что подарокъ отъ дяди Димы еще не пришелъ. Я знаю, что позабыть насъ онъ не могъ, и если нѣтъ ничего… Невольно думаешь о болѣзни… О худомъ…
— Могла транспортная контора опоздать, — сказала Шура.
— Очень уже далеко, — вздохнула Марья Петровна.
— Ну, что думать, да гадать, — точно встряхнулась Ольга Петровна, давайте ваши подарки, раскладывать будемъ подъ елкой.
Понесли большіе и маленькіе пакеты, неизмѣнно завязанные въ бѣлую бумагу, съ четкими «каллиграфическими» надписями: — «мамѣ отъ Нины», «тетѣ Олѣ — угадай отъ кого», были подарки и для Володи, но отъ Володи ничего никому не было.
Онъ былъ новый человѣкъ. Онъ этого не признавалъ. Онъ былъ — выше этого!..
* * *До звѣзды въ этотъ день не ѣли. Въ полуденное время у молодежи особенно щипало въ животахъ, но за работой — раскладывали на блюдцахъ рождественскій гостинецъ — пряники, орѣхи, пастилу, мармеладъ, крупный изюмъ, сушеныя винныя ягоды, финики, яблоки и мандарины и другія сласти и надписывали, кому какая тарелка — про голодъ позабыли. Все дѣлили поровну. Никого нельзя было позабыть или обдѣлить. Тарелки готовили не только членамъ семьи, но и прислугѣ.
Въ столовой не спускали шторъ. Въ окно была видна крыша сосѣдняго флигеля. Толстымъ слоемъ, перегибаясь черезъ край, снѣгъ на ней лежалъ. Изъ трубъ шелъ бѣлый дымъ. Надъ нимъ зеленѣло темнѣющее, вечернее холодное небо.