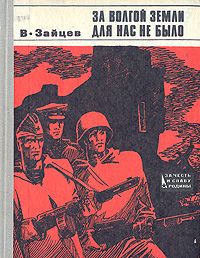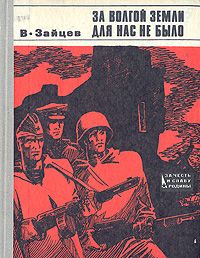Александр Туркин - Душа болит

Обзор книги Александр Туркин - Душа болит
А. Г. Туркин
Душа болит
Судебный следователь Зайцев ехал на вскрытие трупа в село Коровье, которое находилось от станции железной дороги в тридцати верстах. На станции, где был буфет, Зайцев плотно закусил, выпил водки и чувствовал себя превосходно. Покуривал и иногда, слегка дрожащим, жидким тенорком, затягивал:
Вот мельница — она уж развалилась…
Дальше Зайцев не помнил, что нужно петь, но ему было вполне достаточно того, что он знал, и мурлыкал одни и те же слова. Ямщик, в меховой татарской шапке, в валенках, но в плохом, заплатанном зипуне, изредка покрикивал на лошадей и скашивал глаза в сторону «барина» весьма деликатно, точно давал понять, что барину «завсегда» можно петь, как и подобает «всякому начальству»…
Стояла ранняя, но холодная весна. По бокам дороги тянулись черные пашни, с глубокими, точно проржавленными, межами. Иногда попадались чахлые березовые рощи, среди которых — на случайно уцелевших больших и сильных березах — чернели грачиные гнезда. Но перелески попадали редко, все тянулись пашни и луга, с желтой, прошлогодней отавой. Кое-где можно было видеть тощий скот, бродивший недалеко от заимок, мужика, возившегося со старым плугом, брошенным около пашни с прошлой осени. Иногда резал воздух жалобный крик пигалицы — ранней гостьи печальных равнин. И странно все это бороздило душу… В природе не хватало жизни, как не хватает красок в бледно исполненной картине. Не было птичьих песен, бодрых человеческих голосов, мощно кипящего труда. Все казалось недосказанным, сжатым тенью тоски и неволи, точно небо и земля остро подчеркивали, что там, где человек бродит вечным рабом, — там жизни не может быть!
Но Зайцев чувствовал себя превосходно и все тянул одни и те же слова, хотя мысли странно прыгали где-то совсем в стороне. Вспомнил, что дома жена, вероятно, заказала сшить для него брюки, так как всем этим она лично заведовала и всегда давала ему понять, что он «не практик». Потом вспомнил, что с ямщиками иногда разговаривают, и решил приступить к делу. Закурил, солидно откашлялся и слегка дотронулся до спины возницы. Тот моментально задержал лошадей и повернул к Зайцеву рябое, испитое лицо, с противным, заискивающим выражением. И широко осклабился:
— Чего изволите? До ветру?
— Н-н-нет… Ну, как у вас тут?
— Чего-с?
Зайцев и сам не знал, что, собственно, нужно спросить, но поддержать разговор было необходимо. Сохраняя солидный вид, он начал:
— Ну, как у вас тут? Хлебопашество?
— Так точно!
— Гм… Ты разве в солдатах был?
— Никак нет!
— Так зачем… отвечаешь по-военному?
— А это, изволите видеть, ваше благородие, натура-с! Потому как мы завсегда видим начальство — так хозяин приказал нам завсегда отвечать по-солдатски…
— Хозяин?
— Так точно!
— Так… А что… родится у вас тут хлеб?
— Так точно! Лони по сотне пудов снимали с десятины…
— Что?.. Крупчатку?..
— Никак нет! Пшеницу и овес…
Зайцев немного сконфузился и вспомнил опять, что жена ядовито дает ему понять каждый раз, что он «не практик».
Замолчал и думал о том, что сотни раз он видел золотистые колосья, но почему-то никогда не интересовался узнать, что, собственно, растет на полях. И вообще жизнь как-то шла по одной узкой плоскости, точно огромный мир состоял из одних протоколов, дознаний, прокурорских предписаний и винта в клубе. И сотни человеческих трупов пришлось видеть, но в то время, когда нож доктора гулял по мертвому телу, на душе все было как-то странно — размеренно и узко. Смотрел, курил и слушал, как врач, работая ножом, ронял заученно: «…в шейную область, слева под нижней челюстью, нанесена острорежущим орудием рана, длиною в полтора вершка, повредившая дыхательное горло, левую яремную вену и левую сонную артерию…» Смотрел на мертвые, иногда искаженные черты лица, и никогда не приходила мысль в голову, что под ножом легла многогранная, цветная человеческая жизнь… Не думал никогда об этом, записывал свое, что нужно, острил с доктором и говорил ему:
— А вечером, доктор, смастерим винтик?
…Не хотелось думать о чем-то таком сложном, на что требовались пытливые, гибкие мысли, и Зайцев опять спросил возницу:
— А в Коровьем отводная квартира есть?
— Так точно! Плохая, ваше благородие…
— Плохая? Чем плохая?
— Тесно. Да и хозяин не в порядке…
— А что?
— Пьет!
— Пьет?
— Да.
— Так, как же?
— А я вас, значит, доставлю к Якову Семенычу…
— Это кто?
— Торгующий тут: Яков Семеныч Лушников.
— Так, удобно ли? Может, я стесню его?
— Никак нет! Яков Семеныч сам наказывал: ежели какое начальство — ко мне доставляй. Потому, он любит всякое начальство… вот недавно становой у него останавливался: очень довольны остались его благородие…
— Ну… хорошо. Мне все равно…
Говорить больше не хотелось, и Зайцев, откинувшись на подушки, замурлыкал старое. У самой поскотины повстречались со странником. Высокий, худой старик, без шапки, совсем лысый, с мешком за плечами, — странник метнул в сторону Зайцева странно-враждебным взглядом и точно черкнул мимо экипажа. Казалось все это простым и обычным, но невольно хотелось оглянуться назад и узнать — кто он, молчаливый путник холодной степи?
От поскотины, которая развернулась версты на четыре, ясно виднелось село Коровье. Выступала церковь, белая, как лебедь, и поблескивала крестами. Отсюда можно было сосчитать дома, покрытые железом, остальные, больше крытые соломой, сливались в общем, однотонно-сером. В поскотине пасся деревенский скот, и мальчишка-пастух звонко пощелкивал длинным ременным бичом. Скот был больше тощий, вялый и точно подчеркивал своим безжизненным видом, что, наконец, провалилась холодная, бескормная зима, которую всем было пережить нелегко: и людям, и животным…
Скоро доехали до села. Солнце уже садилось низко и мягкими бликами играло на соломенных кровлях. На улицах бегали босоногие мальчишки, что-то кричали вслед, но колокольчики, сразу заигравшие гуще, заглушали детские голоса. Доехали до церковной площади, и ямщик круто завернул лошадей к двухэтажному дому, который резко выделялся среди остальных своей крепкостью, солидностью и сравнительной нарядностью. На воротах высился новенький раскрашенный скворечник, пока пустой, а в нижнем этаже помещалась торговая лавка. На дверях лавки густо расклеены разного рода «рекламы», причем особенно выделялся ярко раскрашенный, франтовато одетый господин в цилиндре, который «рекомендовал» покупателю папиросы какой-то «самой лучшей фабрики в мире». Господин курил папиросу, и на его раскрашенном, глупом лице «почтеннейшая фирма» усиленно постаралась изобразить сладостно-умиленное выражение, которое должно было получиться от курения папиросы… В окнах верхнего этажа четко сверкали белоснежные шторы, собранные к подоконникам широкими розовыми лентами…
— Это что? К Якову Семенычу? — спросил Зайцев.
— Так точно!
Колокольчики взыграли в последний раз у ворот и замерли. Из лавки, брякнув стеклянной дверью, живо выскочил сам Яков Семеныч Лушников. Круглый, жирный, с белыми пухлыми руками, с густо сросшимися бровями и черной бородой, он тонко изобразил на лице почтительность, подошел к экипажу и низко поклонился. Зайцев подал ему руку и сказал небрежно:
— Я — судебный следователь. Знаете: хотел на отводную квартиру, но ямщик…
Он не договорил. Яков Семеныч, с приятной улыбкой, зазолновался и начал сыпать, как горохом:
— Помилуйте, ваше высокородие! Да мы завсегда! Весь, можно сказать, век прожил с начальством. Пожалуйте! Степан, заезжай прямо на двор. Эй, Гришка!
Из лавки вышел чумазый малый, вытер нос рукавом и остановился.
— Живо! Помоги вынести вещи его благородия. Знаешь, в угловую? Пожалуйте! Милости просим! Мы по-русски: милости просим!
Отворили ворота и въехали. Везде было все прочно, солидно. Под навесом стояла крытая повозка с застегнутым кожухом, и в отверстие выставилась детская голова. Сытый, огромный пес, очень лохматый и серьезный, медленно вылез из балагана, брякнул цепью и хотел залаять, но раздумал, почесал за ухом лапой, сладострастно оскалив зубы, и так же медленно убрался в балаган. Зайцев вылез из экипажа, а Лушников забежал вперед и сыпал:
— Пожалуйте! Сюда пожалуйте, ваше высокородие! Наверх милости просим…
Поднимаясь по высокой, крашеной лестнице, устланной цветной дорожкой, Зайцев думал сентиментально:
«Странно! В печати много кричат о том, что русский мужик измельчал, огрубел, часто готов на преступление… Вот вам образец истинного русского добродушия, гостеприимства… Да… Есть еще люди. Есть!»
Поднялся наверх, а впереди, как из земли, опять вырос хозяин:
— Сюда, ваше высокородие! Сюда пожалуйте! Эй, Гришка! Сюда вещи его высокородия…