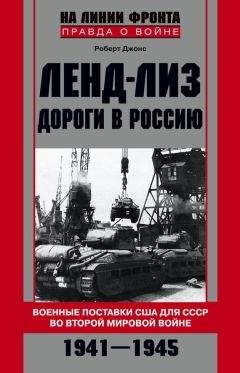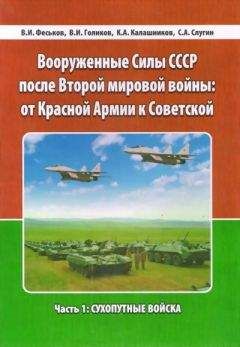Алексей Шорохов - Вечный странник

Обзор книги Алексей Шорохов - Вечный странник
Шорохов Алексей
Вечный странник
Алексей Шорохов
Вечный странник
Алексей Алексеевич Шорохов родился в г. Орле в 1973 году. В 1998 году с отличием окончил Литературный институт им. Горького в Москве. Автор многочисленных поэтических и литературно-критических публикаций в журналах "Наш современник", "Лепта", в газетах "Литературная Россия", "Книжное обозрение", "Независимая газета".
В нашем журнале печатается с 1998 года - стихи, статьи по литературоведению, литературная критика.
Живет в Орле.
Он вынырнул из-за поворота под мостами - обыкновенный трудяга, бортовой "КамАЗ" под тентом, из тех, что тысячами бороздят бескрайние русские просторы по пыльно-серым, едва намеченным веткам шоссейных дорог. На кабине чуть повыше двери красовалась залихватская и в то же время неимоверно печальная надпись: "Вечный странник".
У меня перехватило горло - будто и не было всей этой толчеи автобуса, необъемных и наглых теток, давивших всех и вся сначала собой и сумками, а потом резкой и въедливой бранью; будто не было всей этой куда-то и непонятно зачем несущейся, плотно сбитой массы дней, поступков, ссор с женой, невеселых пьянок и работы, работы...
Грязно-оранжевый, пропитанный пылью на тысячи верст вперед, он представился мне печальным и каким-то звездным. Боже мой, ведь как хорошо и просто он сказал о себе - вечный странник!
Эта бесконечная серая лента дороги, раскатывающаяся перед ним, местами резко переходящая то в ослепительно белую, выжженную солнцем, то в такую же пропыленную и едва отличную от асфальта бетонку с неровными стыками и твердым гулом тяжело груженной машины; очереди у постов ГАИ и бензовозы на обочинах, продающие дешевую солярку (небогатый водительский приработок с выданных на поездку денег); а по бокам - зеленая и ровная, как бесконечный забор, полоса посадок с той и другой стороны дороги.
А ночью, в свете фар, каким причудливым и фантастичным становится этот примелькавшийся за день дорожный мир, те же посадки уже не просто катятся по сторонам, они нависают чудовищными сплетениями, кидаются под колеса неимоверными тенями от редких неоновых фонарей, мелькающих по обочине!
Некогда, некогда водителю смотреть на небо, но если бы он взглянул! Какая чудная и близкая звездная трасса стелется над ним - тысячи далеких и близких стоп-сигналов мельчайших звезд зажигаются и гаснут в ее глубине, сполохи встречных фар одиноких метеоритов и пунктир боковых огней рукотворных спутников - все это движется, живет и скользит, скользит туда же, куда несется, обдавая фарами редкие встречные легковушки, и его разгоряченный скоростью и ускользающим временем "КамАЗ"! "Татарчонком" ласково зовут его дальнобойщики.
Но нельзя водителю смотреть вверх - об этом весь день кричат рули, прибитые к деревьям вдоль дороги, одинокие памятники под насыпью и многажды уже за предыдущие поездки виденные опрокинутые колесами в небо такие же вот бессонные труженики, как и он, все еще вращающие воздух над многотонным и безжалостным водительским склепом!
Что ему приснилось в тот последний и недолгий миг, увидел ли он вздыбившуюся и упавшую на него обочину или только резкая и ослепительная вспышка, как от встречных фар, прорезав сон, вдруг затопила кабину ярким светом?
...Летит щебенка из ям и выбоин под колесами немудреного нашего грузовика, чернеют просмоленные мазутом и загаром руки водителя, лежащие на руле, расталкивает темноту и сонливость сумерек будто пообещавший сам себе нагнать ускользающую вечернюю зарю и хорошо теперь раскатившийся на пустынной трассе бортовой "КамАЗ". А мимо, всего в нескольких километрах от нас, идут на посадку строгие и немножко сгорбленные, тоже будто бы печальные на закате четырехмоторные стратегические бомбардировщики. Они садятся один за другим на какой-то свой засекреченный аэродром, но долго потом еще в наступившей темноте мерещатся их тяжелые и тускло поблескивающие, с провисающими крыльями и замирающими винтами силуэты.
Молодость моя, любимая - где вы? Несется вечный странник в густоту дней, в шелест опавшей листвы, в сырую, беззвездную хлябь осени, глупости, предательства. И не поймешь, то ли далекие точечки стоп-сигналов, то ли огоньки наших с тобой сигарет вспыхивают красноватым блеском на обочине!
Не видно отсюда, жизнь моя, боль моя, далеко занесло нас - тогда ли, теперь ли. Прости......
* * *
Лето стояло ровное и ветреное. Жарко не было. Путешествие по родине автостопом если кому и казалось возможным в те годы разора и раздрая, то только таким же вот потерянным и светлым, как эти прошлогодние травы, гнущиеся под тяжестью воспоминаний над небольшими болотцами, начинавшимися по обочинам Ленинградского шоссе сразу за Химками. Не знаю, сохранились ли они теперь, когда даже "спальная" Москва обросла воровато-кирпичными новоделами, - да и какое это теперь имеет значение!
Вот тогда это значение имело, потому что в одном из таких болотцев Данька увязил ногу, и весь последующий путь в полторы тысячи километров отпечатался на его так и не просохшей окончательно ступне глубокими рубцами и складками, точно воспроизводившими рельефную сетку внутренней подошвы его видавших виды кроссовок, неизвестно когда и как лишившихся стелек и добросовестно дохаживавших свой долгий век так. Оно и глупо бы было пускаться в такой путь в непроверенной и нехоженой обуви.
Липа было сочувственно завздыхала по случаю частичного промокания возлюбленного, да тут же и осеклась - так восторженно блестели ее серые глаза, так лучились ожиданием чего-то чудесного и уже вот-вот близкого, что горевать всерьез из-за таких пустяков и думать было нечего. Она вообще была удивительная - вся, начиная с имени.
Родители ее, больные спортом и молодостью люди, недолго думая, нарекли свое народившееся и, как оказалось впоследствии, единственное чадо в честь самоважнейшего события, предшествовавшего ее появлению на свет, - а именно в честь Московских олимпийских игр. Новорожденная Олимпиада, разумеется, воспротивиться этому не могла, более того - она и позднее нисколько не комплексовала по данному поводу и даже находила немало приятного в таком родительском сумасбродстве.
Самое же удивительное, что имя оказалось старинное, некогда на Руси очень распространенное и даже в святцах означенное. Поэтому, когда впоследствии спортивные пристрастия родителей Липы соразмерно с возрастом поостыли, они происхождение ее диковинного имени объясняли гораздо проще, тем паче что приспела мода на старинные имена.
И вот сейчас, маленькая и какая-то невыразимо женственная даже в самой девчоночьей неуклюжести своей, она беззаботно семенила чуть-чуть позади Даньки, и он даже спиною чувствовал, как взволнованно и восхищенно блестят ее глаза в наступающей темноте.
- Начало довольно мокрое, - отшутился он, - нехорошо и дальше продолжать насухую.
И они присели на обочине, развязав кожаный рюкзачок Липы, в котором было несколько банок пива.
Несмотря на то что Данила считал себя опытным автостопщиком, два с половиной часа безрезультатного голосования по ходу в направлении северной столицы его озаботили. Был бы он один, и горя мало - не раз уже доводилось ночевать ему в придорожных посадках, а еще лучше и памятней - в открытой степи, у неяркого и вдумчивого костерка, на котором шипела и румянилась незаметно выкипающая отечественная тушенка, с начатой бутылкой сухого вина и с крепким и рассудительным явским "Беломором", на трассе "Москва-Симферополь"....
Этой же трассы он не знал, а жлобов, как оказалось, по ней катилось предостаточно - мимо них с характерным шуршанием хорошо шипованных шин резво проносились покидавшие первопрестольную трейлеры. В основном это были ярко расписанные и "круто навороченные" еврофуры "вольво", "маны" и "скании" с московскими, питерскими, а нередко и иностранными номерами, реже - бортовые "мазы" под тентом, и совсем редко "зилы" и "газики" ближнего действия.
Настойчиво голосовавшую парочку разглядывали, даже высовывались из окон, но в наступающих сумерках подобрать не решались. Иные нарочно поддавали газу, а один хохол с харьковскими номерами даже притормозил и, дождавшись, когда Данька, схватив Липу за руку, побежал к нему, резко сорвался с места, отпустив в их адрес не самые литературные выражения.
Вдруг Данила поймал себя на том, что уже почти ощущает неприязнь к этому маленькому комочку света с причудливым именем. "Навязалась же на мою голову!" - подумал он. И ему стало страшно - вот так легко, оказывалось, было растерять странное и нежное тепло, затапливавшее его обыкновенно при взгляде на Липу. Впрочем, она и сама уже не так бодро семенила по обочине и все чаще отставала. Глаз ее не было видно в сумерках, но и они, скорее всего, потухли. Липа даже перестала ругаться на безучастных водил, руливших свои залитые светом громадины куда-то до обидного мимо них.