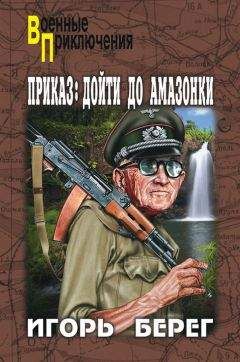Сергей Юрьенен - Союз Сердец, Разбитый наш роман (фрагмент)

Обзор книги Сергей Юрьенен - Союз Сердец, Разбитый наш роман (фрагмент)
Юрьенен Сергей
'Союз Сердец, Разбитый наш роман' (фрагмент)
Сергей Юрьенен
"Союз Сердец. Разбитый наш роман"
(фрагмент)
БЫЛИ И ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ
В Риге зима была веселой, тающей.
У них оказался особняк.
Отведя кисейную занавесь, я смотрел в исхоженный птицами и кошками сад, когда у нее все разлетелось - в поисках карт для пасьянса ящичек из консоли был выхвачен слишком уж нервно.
Среди прочего о ковер стукнул и кверх стволом подпрыгнул пистолет. "Walther". С гравировкой.
За успехи в защите социализма
Собирая шомполки для чистки, вправляя в коробочку патроны, она взглянула. - Осторожно, он заряжен.
Я проверил обойму. - Откуда ты знаешь?
- Я за ним ухаживаю.
- Ты?
- Еще со школы. Папа научил.
Что показалось странным. Мы же не в ЮАР, где это оправданно - как бы не издевались у нас в газетах, публикуя обличительные снимки пистолетов в вытянутых на стрельбищах руках подобных ей блондинок.
- Он кто у тебя?
- Папа? Разве я не говорила?
- Нет.
- Юрист.
Белокуростью оказалась обязана матери, которая была латышкой и с первого взгляда младше дочери: этакий подросток в брюках, которых даже в общежитии дочь не носила никогда. Странная у матери была улыбка приподнято-радостная, но не столько по поводу гостя, а как бы вообще: такой безлично-лучистый восторг. В принципе не ожидая подобного мироощущения в "нашей" Прибалтике, решил, что тут одно из двух: слегка с приветом или верующая (как-нибудь втайне от своего юриста - и атеиста по определению). В виде приветствия произнесла по-русски пару нечленораздельностей, а в дальнейшем, все с той же улыбкой, предпочла отмалчиваться, уступив сцену сначала дочери, потом главе этой международной семьи, которого со службы привезла машина. Вид, как только что с трибуны: "пирожок" из черного каракуля, такой же воротник пальто, которого в четыре руки они еще не сняли с супруга и отца, а он - вид истомленно-волчий - уже буравил вглубь:
- Машину, юноша, водите?
Сразу же тем самым выяснив соцпринадлежность гостя: из семьи безмашинной. Не скрыв при этом удовлетворения:
- Моя красавица права получила в восемнадцать...
Встав на колени, красавица стягивала с папаши бурки.
Следующий вопрос был о вторжении в Прагу - уже под нежнейшие телячьи отбивные с моченой брусникой и водку на лимонных корках из хрустального графина, но, невзирая на рижское радушие и свой эмгэушный аппетит, гость вдруг уперся:
- Были и другие варианты!
Нож стукнул об тарелку. Паузу нарушила латышка-мать, она вскочила с возгласом:
- О! Патиссоны!..
А тот глядел волком.
Юрист...
- Так и европейские компартии считают, - сказал я примирительно. - Луи Арагон, к примеру...
В книжном шкафу у них углядел и "Коммунистов", и "Богатые кварталы", но при имени французского соцреалиста, предположительного авторитета, глава семьи оскалил прокуренные зубы:
- А Арагон пусть варежку закроет!
И подтверждая, что я не ослышался, стал делать вульгарные жесты, выбрасывая пальцы и щелкая о свой большой, как это делают запугивая перед сном ребенка тенью волка: пусть закроет! Пусть закроет! Так разошелся, что опрокинул рюмку.
Налитую до краев.
Руки у него дрожали, когда наливал по-новой.
* * *
После ужина мы вышли. За оградами среди сосен белели заснеженные крыши темных вилл. Не без гордости она сказала:
- В буржуазной Риге это был квартал посольств.
Я подскользнулся.
Все, что таяло, обледенело к ночи. Подхватывая меня на поворотах, она выговаривала за отца, у которого сердце и напряженная работа. Я же, чувствуя, что теряю даже не столько ее, сколько очередную свою иллюзию, с нарастающим пылом выступал за социализм с человечес-ким лицом, а там уже и просто за одно лицо - пусть без. Да! Без социализма.
- Договорился!
И вырвав руку, развернулась так, что унесло по льду.
* * *
Проснулся среди ковров - трофейных, не иначе. Спал, естественно, один - страшно боясь поллюции, но, слава богу, обошлось. Сложил незапятнанные.
На солнечной кухне мать ее предложила кофе. В брюках и пестром свитере имела европейский вид. Белокурая до белизны, улыбалась по-прежнему, хотя менее лучисто. Я тоже улыбался. Что оставалось? Общего языка у нас с ней не было.
На вокзале взял обратный билет. Заодно съездил электричкой на взморье - по следам отроческих, природительских каникул, от которых остались только эти странные названия: Булдури, Дубулты, Дзинтари.
Сейчас мне было странно и то, что когда-то они казалось мне привычными.
Еще осталось воспоминание о страхе влезть на вышку, которая стояла на дюнах перед заливом. Дачные ребята говорили, что с верхней площадки виден женский пляж. Как на ладони: сотни голых женщин. Но все равно не смог преодолеть. 13, 14... Почему так боялся смерти?
Вышку отыскал. Снял перчатки, влез. Никаких чувств, кроме того, что руки мерзли. Сверху окинул взором. Вместо голых женщин - белое безмолвие. До горизонта сияло поле снега. Торосистое: в замерзших как бы волнах. Но вполне преодолимых. Если направо, то Финский залив. Налево Северное море. Прямо же по курсу Стокгольм. Конечно, не дойти, за горизонтом рано или поздно незамерзающее море преградит нам путь.
Не говоря о пограничниках...
Опустил меховые ушли, поднял воротник. Облокотился о мерзлые перила. Заснеженные кроны сосен были только ненамного выше.
Вынул купленную в Риге стеклянную фляжку коньяка и, глядя на горизонт, свернул латунную головку.
* * *
Она была одна, когда шпион вернулся с холода.
Что, собственно, я в ней нашел? Блондинка, конечно. Джентльмены их предпочитают (и в этом, увы, успел я убедиться). Но эти розовые ушки, щечки, белесые реснички... А главное - глаза. Неусомнимые. При том, что никакой уверенности нет за их свинцовой пеленой. Ни в чем.
Особенно в правоте папаши.
Но не глаза, а пули.
Нейтральным голосом я попросил обратно свои письма. Пачка была приготовлена заранее. Сразу потеряв к письмам интерес, отбросил на стол. Схватил, стал целовать. Она отступала под напором. Мы повалились на тахту. Платье знакомо было мне по общежитию. Серо-голубое - пупырчатый такой на нем узор. Вязаный поясок. Который я так и оставлял завязанным, проры-ваясь снизу. Она не давалась. Но вырваться во гневе - тоже. Сопротивлялась, но притягивала. Диалектика эта разрешилась взаимным действием, которое по непристойности превзошло все, что было между нами в МГУ. Когда-то, в третьем классе, ломал себе голову над фразой, вычитанной во взрослом издании Рабле: "Частенько составляли они вместе животное о двух спинах и весело терлись друг о друга своими телесами, вследствие чего Гаргамелла зачала хорошего сына..." Вот этим мы и занимались - правда, не очень весело и без перспективы родить Гаргантюа. Через трусы, заклиненные поясом с чулками, я, не расстегиваясь, натирал ее своим бугром, пока не вырвал стон. Не боли. Облегчения. С чего бы?
Приоткрытый ротик с размазанной помадой. Разрумяненность, расслабленные веки, поволо-ка. Вместо свинца проглянула вдруг бледная голубизна. Вид был, что однозначно, удовольствия. Сын тьмы, даже на третьем году активности про клитор знал я только то, что есть такой. Имеет место. Так же, как кливер, клипер или клирос. Но что это такое? Для чего?
Вдруг сразу понял. Вдруг - и все. Природу загадочной холодности отнюдь не прибал-тийской, как оправдывал...
А пистолет был под рукой.
Когда повернулся, она с негромким: "Самовзвод..." поднялась в чулках с дивана прямо на ствол. Который я оттянул, впустив патрон, мне показавший на прощанье капсюль.
- Как сделал Кляйст...
Романтик - который сначала Генриетту свою в сердце, а после себя в рот. "Зарубежку" XVIII века мы сдавали вместе, так что лишних слов было не надо. Она опустила глаза, отстегнула часики отбросила и сжала себе. Правильно.
Время наше истекло...
* * *
Больше года был в плену у своего невежества. Незнание, конечно, не оправдывает.
И все же: откуда было знать?
При первом свиданьи в холле на диване я расстегнул халатик снизу до ключиц. Лифчик держался только на бретелях, и под моими стиснутыми пальцами (минус большой) трусы промокли от лобызания груди, а я все не решался извлечь. Откладывал - чтоб не повергнуть в ужас прежде времени. И упустил момент! Вдруг вырвалась и, каблучками пантуфель шлепая, умчалась коридором.
Прихватив пишущую, я удалился в умывальник, где начал гулко щелкать, потом недоумен-но стал нюхать пальцы, затем и клавиши... На морепродукты, что ли, перешел сосед-индус? Когда дошло, впал в умиление и сублимацию. Послание положило начало затяжному эпистоляр-ному периоду - вместо свиданий в холле. Избегая угрозы, так сказать, вторжения, рижанка предпочитала любовь в машинописном виде. И эту любовь я ей писал - из комнаты в комнату. По диагонали. Из 403-й в их 415-ю.
И дописался-таки: любимая сдалась. Сломалась неожиданно. Настолько внезапно, что сдача совершилась не на ее кровати - на соседкиной. Какой именно, не знаю: там у нее три, включая бедную Распопову, но в тот вечер не было ни одной.