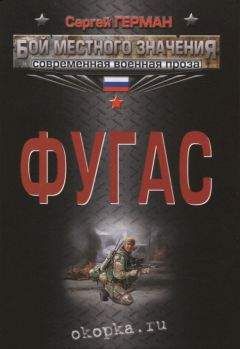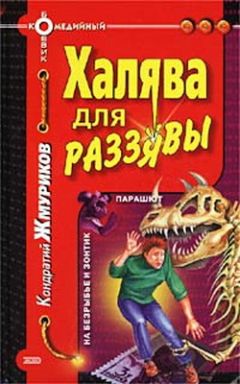Александр Грановский - Двойник полуночника

Обзор книги Александр Грановский - Двойник полуночника
Грановский Александр
Двойник полуночника
Александр Грановский
Двойник полуночника
Настоящая правда
всегда неправдоподобна.
Ф. М. Достоевский
1.
Он уже давно не видел себя в зеркало и невольно вздрогнул, словно натолкнулся на этот взгляд, который посмел рассматривать его в упор с непозволительного расстояния прицела. Но, как всегда, оказался начеку, на миг позабыв, где сейчас находится и кто с ним. Главное, подчинить противника глазами. Особенно в первые секунды, когда тот еще растерян и не знает, с какой стороны последует удар. Чтобы даже не понял, что удар уже последовал...
Неуловимое движение глаз и губ, и он, Coco, уже другой. Глубокие морщины устало перечеркивают лицо, будто кто-то поспешил поставить на нем крест. С тем, портретным, конечно, не сравнить - там художники, лучшие спецы - вся страна, можно сказать, создавала образ, чтобы он вошел в историю на века. Наверное, сейчас его не узнала бы и родная... Он подумал о матери... хотел подумать... А увидел, как бы припорошенное снегом, лицо своей первой жены Кето, которая так мечтала стать матерью, но Бог прибрал ее совсем юной, и когда они свидятся снова, он будет уже стариком, беспомощным и дряхлым.
Наверное, это и есть плата за его грехи - жить долго.
Последняя папироса, последняя капля горечи в иссохшем горле - и можно наконец уснуть. Потерянно забыться в тревожном сне. Так и уснуть, не раздеваясь, чтобы в любой момент быть готовым ко всему. Чтобы, если Они придут (а Они придут... не могут не прийти) - встретить их во всеоружии: глаза в глаза!
Где-то в глубине ночи проснулись часы и начали сонно отбивать удары. На последнем он вздрогнул, отложил погасшую трубку и, словно о чем-то вспомнив, а на самом деле, боясь потерять пока еще смутную и не до конца осознанную мысль, прихрамывая, направился к столу.
Это был большой, зеленого сукна, стол для заседаний. Раньше он принадлежал самому генералу Адрианову - градоначальнику Москвы, потом Троцкий великодушно подарил его Ленину, который просто обожал такие добротные и веские вещи, с их ни с чем не сравнимым запахом порядка и... тайны.
Легкое нажатие на едва заметный выступ, и из стола бесшумно выехал хитроумно встроенный тайник. Здесь хранился архив, где на каждого приближенного имелась своя карточка. Некоторые были пожелтевшими от времени, другие совсем новыми. Много лет он, Coco, собирал эту картотеку власти и сейчас, возможно, в последний раз взирал на главный труд своей жизни. Выхватил наугад несколько убористо исписанных карточек, каждую из которых знал почти наизусть: Зиновьев-Апфельбаум, Гершель Ааронович... Бронштейн-Троцкий, Лейба Давидович... Лаврентий Берия... Ульянов-Ленин... и о каждом из них он знал все, даже самое тайное, о чем те предпочли бы забыть, вычеркнуть из памяти навсегда... Мало ли у кого какие были грешки...
Рыться в этих карточках, а особенно вписывать в них что-нибудь подноготное (которое в департаменте Берии добывать умеют), было его любимым занятием. Мог проводить за ним долгие часы, забывая обо всем на свете. Будто играл в одному ему понятную игру и всегда выигрывал. Кто-то коллекционировал бабочек, а он - людей, во всем разнообразии их пороков и слабостей. Жаль только, что этим нельзя обмениваться с другими коллекционерами (хотя бы с тем же, например, Рузвельтом или с хитрым лисом Черчиллем). Но кому нужен старый развратник К или потомственный алкоголик Б?
В небольшом отделении архива находились несколько пачек денег и подписанные конверты с документами, которые уже давно не имели никакого значения, но он зачем-то продолжал их хранить, как хранят старые фотографии, чтобы на склоне лет вспоминать молодость, когда, казалось, праздник только начинается... Впрочем, какая молодость? Разве она была у него - молодость? У революционеров не бывает молодости. Все они, словно меченые смертью, незаметно привыкают презирать жизнь с ее мелочными заботами и радостями, которые только отвлекают от борьбы... А когда вдруг оказывается, что все жертвы были напрасны, приходят другие революционеры.
...Взял хромированный пистолет-зажигалку, навскидку прицелился в темноту окна. В последний миг успел загадать желание и все-таки вздрогнул, когда вместо выстрела из дула выплеснул голубоватый огонек. Секунду, другую смотрел на него, как завороженный, и только потом позволил себе улыбнуться.
Маленькая элегантная игрушка была с секретом (сколько ни пытался разгадать его Берия) и легко превращалась в пистолет, который мог стрелять такими же элегантными хромированными пульками. Он не помнил, в каком положении оставил в последний раз таинственный предохранитель, но, к счастью, выстрела не последовало, и это был уже хороший знак.
Не зря Абакумов утверждал, что игрушка - единственный и неповторимый в своем роде экземпляр. Небось, ради этой неповторимости и пустил замечательного мастера в расход. Словно лишний раз доказывая свое, Сталинское, как-то брошенное в запале политической борьбы, что незаменимых людей нет. Нет-то оно, конечно, нет... Надо только поставить человека в условия, чтобы захотел... чтобы очень захотел... Но и мастера другого такого нет.
Блестит, переливается хромированная поверхность. Приятная тяжесть уютно покоится в руке. Все исполнено точно по ладони. Каким-то образом измерили, учли. Иногда ему, Сталину, кажется, что Они знают о нем все и уже давно научились предвидеть каждый его шаг, каждое слово, даже желание. Одного Они не учли - времени, которое первым начнет отсчитывать он.
Из денег, поколебавшись, взял всего пачку. Много это или мало представлял смутно. "Деньги - это дерьмо, но дерьмо - это не деньги", некстати вспомнил Ницше, которого когда-то боготворил, пока не понял, что и этот "сверхчеловек" был такой же, как и все - мечтатель и неудачник, раздираемый страстями и слабостями. Вдобавок ко всему панически боялся женщин, постичь которых не помогала никакая философия. Наверное, и рога ему наставляли с тем особым наслаждением, какое испытывают ничтожества перед гениями.
Почему-то все гении несчастны и в каждом их несчастье замешана женщина.
Только сейчас вспомнил, зачем полез в тайник (интересно, что скрывал в этом ящичке Ленин?). Впрочем, нет - с первой минуты знал и помнил. Словно давно хотел и боялся этой встречи - со своей юностью, с Кето...
Маленькая пожелтевшая фотография словно излучала свет, но лицо было какое-то чужое, и чем больше он, Coco, его рассматривал, тем больше закрадывалась мысль, что, может, и не было никакого прошлого, а все это он придумал себе вместо снов, бессонными ночами утраченных надежд?
2.
Тяжелая дубовая панель со скрипом повернулась. Из черного проема пахнуло сыростью и спертым воздухом подземелья. Секунду-другую пребывал в нерешительности, словно к чему-то прислушивался или чего-то ждал, и лишь потом, пригнув голову, нырнул в настороженную темноту.
Он и сам не знал, кто и когда построил этот ход - царь Иван Грозный или еще его бабка, византийская принцесса Софья Палеолог - знал только, что существует, чтобы понадобиться в случае чего. Еще подумал, что потому и понадобится, что существует. Воистину, все связано со всем. Не будь этого хода, и он не включил бы его в свой план. Не будь хода, и самого бы плана не было. А так, благодаря ходу, а значит, и Ивану Грозному, история повторяется. И человек повторяется. Иногда ему и в самом деле казалось, что все уже было, и сейчас он, Coco, просто повторяет одну из своих жизней. Возможно, того же Ивана Грозного или жестокого (но справедливого) Тамерлана (то-то он всегда чувствовал между ними почти мистическую связь). А значит, человечеству повелители необходимы. Чтобы ускорить замирающий ход жизни, подтолкнуть колесо истории, которое рано или поздно почему-то начинает пробуксовывать, и тогда человечество охватывает тоска и скука, словно долгой зимой в заброшенном Туруханске на краю Земли. И великие всегда повторяют великих... Что даже укладывается в диалектический и исторический материализмы, в которые, при желании, можно уложить все. Вот только страх... Потаенная печаль всех великих - этот облепляющий страх ночи, когда на пороге вечности вдруг открывается истина, что все достижения такой же тлен, как и сама жизнь. "Все проходит..." Время не различает ни рабов, ни героев, и тогда начинает закрадываться... еще не страх, а некое предощущение страха (которое порой сильнее) - страха за будущее... И настоящее. Которое уже тебе не принадлежит. И тогда ход - последняя надежда. Чтобы в который раз испытать судьбу.
И, как всегда, это знакомое до дрожи... что в темноте кто-то есть... Или может быть... Подстерегать... только ждет момента, чтобы сомкнуть холодные пальцы на хрипящем горле и тем самым исполнить приговор. Но секунды, словно стекали по шее капельками пота, а того, главного страха, не было. Он уверен, что распознал бы его сразу. Лишь мучительно перебирал: кто? И заглядывал в глаза, в самую душу заглядывал, в самые потемки, но там уже давно поселилась пустота, а того, главного, страха до сих пор не было. Во всяком случае пока. Он уверен, что распознал бы его сразу. А так, слишком легкая получалась смерть. Слишком европейская. В Азии всегда было по-другому. Как с Гришкой Распутиным, и концы в воду. Или как с Николаем вторым... До такого не додумался даже он, Coco, - единственный азиат, среди этих европейцев. А вождь и учитель стоял рядом, наблюдал... И эта его ухмылочка, которую потом назовут отеческой... И вздернутая, как у беса, бороденка...