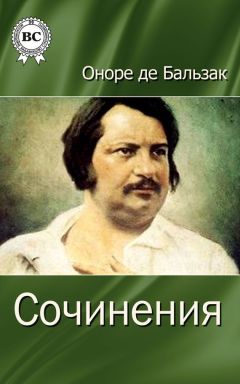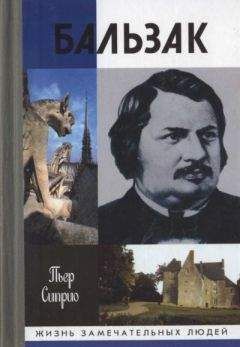Оноре де'Бальзак - Сочинения
– Если вас интересуют эти виды, – сказала Камиль, – то вам надо обойти с Калистом вокруг Круазига. Там есть чудные скалы, гранитные каскады, маленькие бухты с естественными водоемами; там можно видеть самые причудливые вещи, и, наконец, море с тысячами мраморных обломков, с массой интересного. Вы увидите, как женщины делают дрова: они прилепляют коровий навоз по стенам, сушат его и кладут глыбами, как в Париже; а зимой здесь греются этими дровами.
– Вы рискуете Калистом? – смеясь, спросила маркиза, намекая тоном на то, что вчера Камиль, сердясь на Беатрису, заставила ее занимать Калиста.
– Ах, милая моя, когда вы узнаете ангельскую душу этого ребенка, вы поймете меня. В нем красота это не главное, надо узнать это чистое сердце, эту наивность, это удивление при каждом новом шаге, сделанном в области любви. Какая вера! Какая чистота! Какая прелесть! Древние были правы, окружая культом святую красоту. Не помню, кто из путешественников говорил нам, что лошади на свободе выбирают себе в главари самую красивую. Красота, милая моя, это гений; она верная примета, данная природой самым совершенным ее творениям, она самый верный символ точно так же, как и величайшая случайность. Можно ли вообразить себе ангела с уродливой фигурой? Разве у них красота не соединяется всегда с силой? Что нас заставляет целыми часами простаивать в Италии перед иными картинами, где гений в продолжение нескольких лет старался изобразить одну из случайностей природы? Положа руку на сердце, разве к нравственному величию мы не хотели бы всегда добавить идеальную красоту? Калист – это осуществившаяся мечта, он храбр, как лев, который спокоен, не подозревая, что он царь. Когда Калист не стесняется, он умен; мне нравится в нем эта застенчивость молодой девушки. Душа отдыхает на этом сердце от всей испорченности, от научных мыслей, от литературы, от света, от политики, от всех этих бесполезных вещей, которые губят наше счастье. Я сделалась теперь тем, чем никогда не была, ребенком! Я уверена в нем, но я нарочно притворяюсь ревнивой; он бывает всегда так доволен этим. Впрочем, это тоже мой секрет.
Беатриса прогуливалась, задумчивая и молчаливая, а Камиль выносила невыносимую муку и бросала на нее украдкой огненные взгляды.
– Ах, милая, ты счастлива, – сказала Беатриса, опираясь на руку Камиль, точно истомившись от какой-то внутренней борьбы.
– Да, очень счастлива! – отвечала с горечью бедная Фелиситэ.
Обе женщины в полном изнеможении упали на скамейку.
Ни одна женщина не была никогда подвержена такому искушению, такому тонкому маккиавелизму, как маркиза за эту неделю.
– А я! Видеть неверности Конти, переносить их!..
– А почему тебе не бросить его? – сказала Камиль, видя, что настала благоприятная минута нанести решительный удар.
– Да разве я могу?
– О! Бедное дитя…
Обе машинально смотрели на группу деревьев.
– Я пойду, потороплю завтрак, – сказала Камиль, – наша прогулка придала мне аппетит.
– А наш разговор лишил меня его, – сказала Беатриса.
Беатриса в утреннем туалете вырисовывалась своей белой фигурой очень отчетливо на золотом фоне листвы. Калист, прокравшийся через гостиную в сад, шел медленно по аллее, чтобы как будто нечаянно встретиться с маркизой; Беатриса, увидав его, слегка вздрогнула.
– Чем я не понравился вам вчера? – спросил Калист, обменявшись несколькими банальными фразами.
– Вы мне так же мало нравитесь, как и не нравитесь, – сказала она кротким голосом.
Тон, весь вид и чарующее обаяние маркизы придали Калисту бодрости.
– Я ничего не составляю для вас, – сказал он взволнованным голосом, с глазами, затуманившимися от слез.
– Разве мы не должны быть чужими друг другу? – отвечала маркиза. – У каждого из нас есть своя искренняя привязанность…
– Ах! – быстро возразил Калист, – я любил Камиль, но не люблю уж больше.
– А что же вы делаете каждый день, целое утро? – спросила она с ядовитой улыбкой, – Я не могу, поверить, чтобы, несмотря на свою страсть к табаку, Камиль предпочитала сигару вам, и, что вы, несмотря на ваше поклонение женщинам-авторам, проводили бы четыре часа за чтением женских романов.
– Вы знаете?.. – воскликнул наивный бретонец, все лицо которого сияло от счастья, что он видит свой кумир.
– Калист, – порывисто воскликнула Камиль, внезапно показываясь перед ними; она прервала его слова, схватила за руку и увлекла на несколько шагов дальше; – Калист, а то ли вы мне обещали?
Маркиза могла расслышать упрек мадемуазель де Туш, которая увела Калиста, продолжая бранить его; она была поражена признаньем Калиста и ничего не понимала из того, что делалось вокруг нее. Г-жа де Рошефильд не была так умна, как Клод Виньон. Ужасная и вместе высокая роль, которую играла здесь Камиль, относится к разряду тех постыдных, хотя и великих деяний, которые женщина допускает только в самом крайнем случае.
Это предел, где разбиваются их сердца, где замолкают женские чувства; здесь начинается для них самоотречение, которое низводит их в преисподнюю или возносит на небо.
Во время завтрака, к которому был приглашен Калист, маркиза, чувства которой отличались горделивостью и благородством, уже справилась с собой и постаралась вырвать из своего сердца зачатки любви. Она с Калистом обращалась уже не холодно и не жестко, а безразлично-ласково, что повергло его в отчаяние. Фелиситэ завела разговор о том, чтобы устроить послезавтра экскурсию в оригинальную местность, лежащую между Тушем, Круазигом и местечком Батц. Она просила Калиста употребить завтрашний день на то, чтобы достать лодку и матросов, на случай прогулки по морю. Она берет на себя провизию, лошадей, одним словом, все, что нужно было иметь под рукой, чтобы не испытывать усталости. Беатриса отказалась наотрез, сказав, что она не может разъезжать таким образом по окрестностям. Лицо Калиста, выражавшее живую радость, сразу точно подернулось облаком.
– А чего вы боитесь, милая моя? – спросила Камиль.
– Мое положение слишком щекотливо, чтобы мне рисковать не репутацией, а своим счастьем, – с пафосом сказала она, глядя на молодого бретонца, – Вы знаете, как ревнив Конти; если он узнает…
– А кто ему скажет об этом?
– Разве он не должен приехать за мной?
Калист побледнел при этих словах. Несмотря на настояние Фелиситэ и молодого бретонца, г-жа де Рошефильд осталась неумолима и выказала, по словам Камиль, свое упрямство. Калист, не взирая на надежду, внушавшуюся ему мадемуазель де Туш, покинул Туш, полный огорчений, любви, которая наполняла его душу своей силой, доходящей до безумия. Вернувшись в замок, он вышел из комнаты только к обеду и вскоре опять ушел в себе. В десять часов встревоженная мать пришла проведать его и увидала, что он пишет что-то; вокруг валялись перечеркнутые и изорванные листы бумаги; он писал Беатрисе, так как не доверял больше Камиль; выражение лица маркизы во время их свидания в саду очень ободрило его. Первое любовное письмо никогда не выливается сразу, как пламенный крик души, хотя казалось бы, оно должно бы быть таким. Письмо молодого, не испорченного существа бывает всегда полно слишком большого огня, слишком много в нем кипучего материала, так что приходится написать, разорвать и снова сочинять несколько писем, пока, наконец, одно письмо явится резюме всего этого. Вот на чем остановился Калист и вот письмо, которое он прочел своей бедной удивленной матери. Ей казалось, что весь старый дом занялся огнем, любовь сына горела точно зарево пожара.
Калист Беатрисе.
«Я любил вас, когда вы для меня еще были мечтой, судите же, как сильна стала моя любовь, когда я увидел вас. Действительность превзошла мечту мою. К моему огорчению, я не скажу вам ничего нового, сказав вам, что вы чудно хороши; но навряд ли в ком-нибудь красота ваша вызывала такое чувство, как у меня. Вы красивы и не только одним видом красоты; я изучил вас, думая о вас и днем и ночью, я проник во все тайны вашей наружности, во все скрытые изгибы вашего сердца, узнал всю вашу неоцененную другими деликатность. Разве вас кто-нибудь понял, боготворил, как вы того заслуживаете? Знайте же, каждая ваша черта нашла отголосок в моем сердце: ваша гордость равняется моей; благородство вашего взгляда, обаяние ваших манер, изящество движений – все в вас находится в гармонии с мыслями и желаниями, таящимися в глубине вашей души и, угадав их, я счел себя достойным вас. Если бы за эти несколько дней я не стал вашим двойником, стал ли бы я говорить о себе? Читать в себе, было бы эгоизмом; здесь дело идет гораздо больше о вас, чем о Калисте. Чтобы писать вам, Беатриса, я заставил замолкнуть свои двадцать лет, я постарался состариться умом или, может быть, вы сами его состарили во мне этой неделей ужасных мучений, которые вы невольно причинили мне. Не принимайте меня за заурядного влюбленного, над которыми вы вполне основательно смеялись. Хороша заслуга любить молодую, красивую, умную и благородную женщину! Увы! Я даже не думаю о том, чтобы заслужить вас. Что такое я для вас? Ребенок, привлеченный блеском вашей красоты и нравственным величием, как бабочка огнем. Вы только и можете, что наступить ногой на цветы моей души, но я счастлив уже тем, что вы растопчете их. Полная преданность, безграничная преданность, безумная любовь, все богатства любящего, правдивого сердца – ничто; они только помогают любить, из-за них нельзя заставить себя полюбить. Временами я не могу понять, как такой пламенный фанатизм не согреет моего кумира; но когда я вижу ваши суровые и холодные глаза – я весь леденею. Ваше презрение, а не мое поклонение, одерживает верх. Почему? Вы не можете так ненавидеть меня, как я люблю вас, так почему же более слабое чувство должно осиливать более глубокое? Я любил Фелиситэ всей силой сердца; но я забыл ее в один день, в одну минуту, увидав вас. Она была ошибкой, а истина – вы; вы сами, не зная, разрушили мое счастье, но ничего не должны мне за это. Я любил Камиль безнадежно, и вы также не даете мне никакой надежды: ничего не изменилось, кроме самого божества. Я был идолопоклонником, а теперь стал христианином, вот и все. Вы научили меня тому, что любить – это величайшее счастье; быть любимым – следует за ним. По мнению Камиль, любовь на несколько дней не значит любить; любовь, которая не разрастается все больше с каждым днем, жалкая страсть; чтобы все расти, любовь не должна видеть своего предела, а Камиль видела закат нашей любви. Увидав вас, я понял ее слова, которые я оспаривал со всей юностью, со всей силой своего желания, с деспотичным самомнением своих двадцати лет. Великая, несравненная Камиль смешала свои слезы с моими. Итак, я могу вас любить на земле и на небе, как любят Бога. Если бы вы полюбили меня, вам не пришлось бы приводить мне те доводы, которыми Камиль сковывала все мои старания. Мы оба молоды, мы можем подняться на одних крыльях, летать под одним небом, не боясь грозы, которой страшилась эта орлица. По что я говорю? Я слишком далеко унесся от моих скромных желаний! Вы, пожалуй, не будете больше верить моей покорности, моему терпению и молчаливому поклонению, которое я усердно молю вас не терзать понапрасну. Я знаю, Беатриса, что вы не можете полюбить меня иначе, как утратив отчасти уважение к себе. Поэтому я не прошу ответа. Камиль говорила как-то по поводу своего имени, что имена имеют свой фатум. Этот фатум я предчувствовал для себя в вашем, когда в Геранде на взморье оно впервые бросилось мне в глаза на берегу океана. Вы пройдете в моей жизни, как Беатриче в жизни Данте. Мое сердце будет служить пьедесталом для бледной, мстительной, гнетущей статуи. Вам запрещено меня любить; вы будете испытывать смертельные муки, вам будут изменять, унижать вас, делать несчастной: в вас есть демоническая гордость, которая приковывает вас к столбу, избранному вами; вы погибнете около него, разрушив храм, как сделал Сампсон. Я не сам угадал это, любовь моя слишком слепа для этого; мне сказала об этом Камиль. Здесь говорит ее ум, а не мой; у меня же нет более ума, когда дело идет о вас, сердце мое наполняется кровью и от нее темнеет рассудок, слабеют силы, костенеет язык, подгибаются колена. Что бы вы ни делали, я только могу боготворить вас. Камиль называет вашу решительность упрямством; я защищаю вас и считаю ее добродетелью. От этого вы делаетесь еще красивее в моих глазах. Я знаю мою судьбу: гордость Бретани стоит на одном уровне с женщиной, сделавшей себе добродетель из своей гордости. Милая Беатриса, будьте же добры и утешьте меня. Когда жертвы были уже намечены, их увенчивали цветами: вы должны меня осыпать цветами сожаления, усладить меня гармонией самопожертвования. Разве не служу я доказательством вашего величия, разве вы не будете еще более велики от моей любви, презренной вами, не взирая на ее искренность, на ее бессмертный огонь? Опросите Камиль, как я вел себя с того дня, как она мне сказала, что любит Клода Виньон. Я замолк, я страдал молча. Для вас я найду в себе еще больше сил, если только вы не повергнете меня в отчаяние, если вы оцените мое геройство. Одна ваша похвала даст мне силы, подобно мученику, вынести все терзания. Если вы будете упорствовать в этом холодном молчании, в этом убийственном пренебрежении, я могу подумать, что я опасен. Ах! будьте со мной такой, какая вы есть, любящей, веселой, умной, очаровательной. Говорите мне про Женнаро, как Камиль говорила мне про Клода. У меня нет другого таланта, кроме любви, меня нечего опасаться; я буду вести себя с вами, как будто не люблю вас. Неужели вы отвергнете мольбу смиренной любви бедного ребенка, который как милости просит, чтобы его огонь светил ему, чтобы солнце согревало его? Человек, которого вы любите, всегда будет видеть вас; а у бедного Калиста мало времени впереди, вы скоро покончите с ним всякие расчеты. Итак, я завтра приду в Туш, неправда ли? вы не откажете опереться на мою руку и осмотреть Круазиг и Батц? Если вы не пойдете, то это будет ответ, понятный для Калиста».